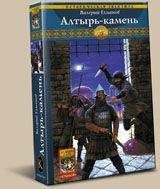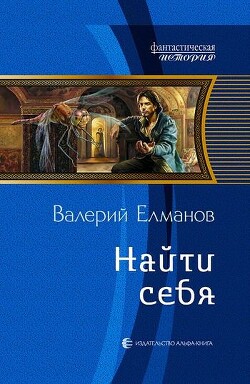Третьего не дано? - Елманов Валерий Иванович
— Не тяжко, — кивнул он. — Уплачу.
— И крест поцелуешь? — уточнил я.
Дмитрий молча извлек из-за пазухи крест, прикоснулся к нему губами и торжественно заверил меня:
— Все в точности исполню, коль… царь Борис в апреле скончается.
— Тогда мне пора в рай, — предупредил я и неспешно, вразвалочку двинулся к воеводам, весело крикнув им на ходу: — Что, родимые, заскучали тут без меня?! — И тут же внес необходимые коррективы: — А что это вы так прижались друг к дружке? Не дело. Крест Христа, согласно Библии, стоял в середке, промеж двух разбойничков. Так что раздвигай ряды, честной народ, и того, кто первый из вас скажет мне, что я безвинно страдаю, обязуюсь захватить с собой в царство небесное, а уж второго, извините, количество мест там строго ограниченно. Потому рекомендую поторопиться.
И чего я так развеселился?
Ах ну да, глаз из-за решетки.
Нет, он и теперь выглядывает, но слез в нем не видно. Правда, и веселья почему-то не наблюдается, а вот это зря.
Я же все сделал как надо, так что остается вам с Квентином жить-поживать, да добра наживать.
Почему я не попросил милости или пощады? Не знаю.
Уверен только в одном — гордыня тут ни при чем, хотя гордость, возможно, и замешана, поскольку унижаться я не хотел.
Но помимо этого у меня было подспудное чувство, что единственный шанс остаться в живых заключался для меня в том, чтобы… не держаться за жизнь. А уж выпадет он или нет — не мне решать.
Смешно, но стоящий справа воевода, чьего имени я не знал, действительно раскрыл рот и, тоскливо глядя на меня, подтвердил:
— И впрямь ты у нас один страдалец безвинный.
Вот чудак! Он что, всерьез?!
Я ж шучу насчет рая, мужик!
Но пояснить, что у меня просто такой своеобразный юмор, почему-то язык не повернулся.
Пусть умрет, наивный, в уверенности, что я и впрямь захвачу его с собой, хотя я и сам не знаю, где окажусь. Может, в космосе, где стану звездой, или, наоборот, провалюсь в какую-то мрачную «черную дыру».
Впрочем, зачем гадать.
Поживем — увидим.
Или нет, правильнее, наверное, помрем — увидим.
Во всяком случае, как бы там ни было, «мне есть что спеть, представ перед всевышним, мне есть чем оправдаться перед ним» [99].
— А ты что молчишь? — усмешливо поинтересовался я у Хрущева. — Думаешь, что опоздал? Не боись, в раю мест изрядно, потому как очень дорого стоят. И вообще, я добрее Христа, так что прихвачу и тебя, чего уж тут.
Но тот продолжал таращить глаза на кого-то стоящего сзади меня. Я сделал еще один шаг вперед, заняв, как и заказывал, место в середине, и лишь после этого спокойно обернулся, уже догадываясь, кого увижу.
Так и есть — царевич.
Вот привязался, ядрена вошь! Ну чего тебе еще, какие такие подробности нужны?
— Ты забыл упомянуть про число, — просительно произнес Дмитрий, словно извинялся за то, что отвлек от куда более важного дела.
Хотя да, куда уж важнее. Ведь главное — не как ты родишься, ибо в этом процессе никто из нас активного участия не принимает, а как ты умираешь.
Как и за что.
Потому я принимаю твои хоть и не высказанные на словах извинения.
Принимаю и… извиняю.
Живи, не кашляй.
— В видениях календарей не бывает, — с легкой иронией заметил я. — Во всяком случае, в моих — точно. Знаю только, что в апреле. Листочки на деревьях, которые увидел, были совсем молоденькие. — Хотел развести руками, но они были связаны, потому пришлось заменить жест и передернуть плечами. — А теперь извини, царевич, — в свою очередь попросил я у него прощения, — но дальше мне с тобой разговаривать недосуг. Пора и к смерти приготовиться, а то все дела, дела…
На секунду стало жалко, что расчет мой оправдался, но не во всех своих пунктах. Может, Годуновых я и выручил, а вот себя — увы…
Ну и ладно. Как там говорится: «Помирать, так с музыкой». Так что все равно на колени не рухну, как тот, что справа, который пополз к сафьяновым сапогам царевича, завывая что-то скуляще-просящее.
Ну точь-в-точь как побитая собака.
Нет уж, от меня он такого не дождется. Никогда! Ни за что!
Почему-то в эти последние секунды мне показалось самым важным не уронить собственного достоинства, чтобы показать, как отважны и горды потомки…
Тьфу ты, дьявольщина, словно я и впрямь из рода Мак-Альпин.
Или по принципу — назвался груздем?..
Не знаю.
А царевич продолжал молча стоять передо мной, словно решая нечто важное. Вот же надоеда. И чего уставился?
Как там в гайдаевской кинокомедии?
— Ты своим взглядом скоро дырку на мне протрешь, крестный отец, — нахально заметил я, припомнив и тут же слегка перефразировав слова киногероя. — А если уж решил остаться, так хотя бы как-нибудь отодвинулся, а то, не ровен час, смажут да угодят прямиком в твое величество. — И насторожился.
Ба-а, а нож ты зачем извлек? Неужто и впрямь возомнил себя крестным отцом и решил, как дон Корлеоне, самолично расправиться с изменником?
Так это ж совсем не так делается, дурилка ты картонная! Кина надо смотреть, которые голливудские, а не за трон драться.
Растолковать, что ли?
Берется цемент, таз, ставят в него человека, раствор замешивается…
Нет, не буду я продолжать, все равно тебе там за печкой в Путивле не понять, потому как ты есть темнота некультурная…
Или?..
Да нет, не верю!
Но хотя я, как мог, давил в себе эту надежду, которую успел минутой раньше окончательно похоронить, точно зная, что после разочарования помирать будет гораздо страшнее, она, окаянная, уже успела забраться куда-то возле сердца, заставив его молотиться в груди вдвое быстрее обычного.
«Не верю!» — упрямо орал я мысленно, даже после того, как с моих рук спали разрезанные веревки.
«Не верю», — последний раз произнес я по инерции, хотя Дмитрий уже ухватил меня за рукав кафтана и настойчиво тянул за собой, уводя от обреченных воевод.
Запас азарта во мне, по счастью, еще не иссяк, чему я возрадовался, как ни странно, даже больше, чем неожиданному помилованию.
Было бы чертовски обидно после всей моей бравады тупо усесться на голую черную землю, потому что ноги держать перестали.
— Я… тебя… милую, — выдавил Дмитрий на ходу, хотя и без того было ясно.
— Да ну?! Даже нераскаявшегося?! — удивился я и поинтересовался: — А как же сенат? — И, послушно следуя в кильватере за царевичем, безостановочно продолжал бубнить: — Разве можно так бессовестно нарушать решения верховного органа, в котором заседают потомки гордых римлян, правда, с московскими суконными рылами? — После чего нагло предупредил его: — Гляди, как бы господа сенаторы не выразили тебе порицание.
— Ты… — зло повернулся он ко мне, но тут же стих и, неуверенно улыбнувшись, ищуще спросил: — Это ты шутишь, да?
— Можно сказать и так, — согласился я. — У нашего шкоцкого народа вообще в большом ходу эдакий сугубо наш, шкоцкий черный юмор, кой я тебе ныне и демонстрирую.
— Царевич, а дозволь его с собой взяти? — вдруг вынырнул откуда-то Гуляй.
Хотя нет, тут я неправ. Это не он вынырнул, это мы подошли к лошадям, которых он держал под уздцы.
Дмитрий еще раз внимательно посмотрел на меня и, торопливо бросив: «С утра поговорим», поспешил забраться на своего арабского скакуна. Однако ускакал не сразу.
— Там про остальных не забудь, а то и впрямь темнеет, — озабоченно заметил он Гуляю. — Да загляни к монахам и вели, чтоб они вам бочку… нет, две бочки вина выкатили.
— О-о-о! — радостно взвыл Гуляй. — То и славно. Эгей, робя, гуляем нынче! — от избытка чувств завопил он через все поле. — Тока допрежь ентих, кои истинные изменщики, надобно…
Он даже не успел договорить, как раздались первые выстрелы — радостные казачки торопились попить винца.
Я не обернулся — это был жестокий мир с волчьими нравами, и нет за мной вины в том, что сегодня пули впились не в мое тело.
Значит, они чужие — мои от меня не ушли бы.