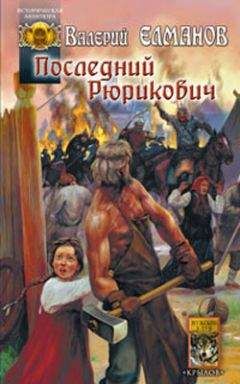Поднимите мне веки - Елманов Валерий Иванович
Нет, само оно было в порядке, но содержимое…
Не знаю, сам ли он додумался так меня подставить или кто-то подсказал, но сплошное золото было лишь сверху, а дальше вперемешку с серебром, причем, так сказать, не только отечественного производства, но и иностранного.
И ведь как подобрал, зараза эдакая! Все монетки по размеру весьма походили на золотые.
Разумеется, подлость его поначалу предназначалась для меня, поскольку это блюдо и принесли мне на подворье, а лишь потом оттащили Афанасию Ивановичу.
Но Власьев был человеком ушлым – должность дипломата налагает привычку все проверить и перепроверить, так что обнаружил все загодя.
Скандалить он не стал, поскольку перепуганный Булгаков, узнав о том, что сыпать монеты на государя будет не князь Мак-Альпин, а надворный подскарбий, успел прибежать к дьяку, бухнуться в ноги, во всем сознаться и тут же заменить.
Будь я на месте Власьева – навряд ли додумался бы заглянуть в блюдо, да еще поковыряться в содержимом. Представляю, что донесли бы Дмитрию. Дескать, богатырь-то твой нечист на руку, и мало ему твоей казны, государь, так он решил еще прикарманить и золотишко, подменив его на серебро.
Царь, конечно, не дурак, понял бы, что орлы мухами не питаются, и все равно бы не поверил, но ведь можно и добавить. Дескать, сделано это князем не для обогащения, поскольку он и без того украл у тебя изрядно, но из желания унизить тебя, «красное солнышко», и показать, что ты…
А в конце непременно добавили бы, что сотворил я это не сам, но по коварному наущению Федора Годунова. Мол, злобствует царевич на свое изгнание из Москвы и что его не оставили поприсутствовать на венчании на царство.
Словом, было бы желание, а уж правдоподобно звучащих версий к столь чудесному поводу можно подобрать сколько душе угодно.
Вдобавок помимо Дмитрия – больше чем уверен – запустили бы аналогичные слушки среди жителей, а это уже называется рекламная кампания наоборот, то есть черный пиар.
Не спорю, поверили бы далеко не все, но тут и десятой части за глаза, поскольку если опустить ложку дегтя в бочку с медом и тщательно перемешать, то вкус будет далеко не такой приятный.
Честно говоря, узнав об этом от Власьева, я ожидал, что бояре выдумают что-нибудь и про врученный Дмитрию меч, но промахнулся с догадками. Как донесли мои бродячие спецназовцы, тут царила полная тишина.
Даже странно. Мне кажется, если немного подумать, то запросто можно было бы изобрести нечто эдакое, чтоб мне пришлось долго-долго отмываться.
Видно, не хватило у бояр фантазии.
Как ни удивительно, не возникло у меня проблем и во всем остальном. Мир-кот явно давал мне передохнуть. Никаких тебе каверз, никаких пакостей, если не считать непривычно трезвого Микеланджело, хвостом увивавшегося за мной все эти дни.
Итальянец по секрету пояснил, что собирается писать картину «Самсон, избивающий филистимлян», а мое лицо ему требовалось для того, чтобы…
Ну да, в кино я еще не попал, а вот в библейские герои, кажется, угодил.
Обижать художника не хотелось, поэтому я попросту время от времени сбегал от него, изобретая один благовидный предлог за другим. Зато во всем остальном никаких проблем.
Благодаря этому затишью я сумел спокойно провернуть оставшиеся дела, которые наметил, включая самое важное – совещание со своими ребятками, касающееся их перераспределения.
В очередной раз улизнув от лихорадочно делавшего эскиз за эскизом Караваджо, я появился на Малой Бронной и ополовинил все свои тайные бригады, оставив лишь по паре человек, да и то без руководства, которое должно было налаживать то же самое в Костроме и… Прибалтике.
Тем, кто рядился здесь в нищих и монахов, предстояло своим ходом отправиться к Годунову. Им на севере делать было нечего. Остальные – «купцы» и «ремесленники» – подались к оставленному в укромном месте стругу с указанием, где и когда меня ждать на волжском берегу.
Их я предполагал отправить из Ольховки в Нарву и Ревель, сразу предупредив, что время ограничено, поэтому срок готовности «пятой колонны» – зима.
Вместе с ними поехали парни, которые не принимали участия в драке на Никольской улице. Хотел отрядить туда и раненых, но куда там. Просили, как о великой милости, взять с собой, и отказать я не смог, тем более что чувствовали они себя вполне – лекарства Петровны в очередной раз сотворили чудеса.
С Барухом тоже был полный порядок. Выплатил все-таки ему Дмитрий должок, прислушавшись к моим словам о том, что своевременный возврат взятого кредита – самая лучшая гарантия быстрого получения нового.
Единственная сложность возникла с Любавой.
По счастью, дело дошло только до кнута – дыба намечалась на следующий день после моего ночного визита, а там завертелось так, что стало не до сестры Виринеи, но Дмитрий очень уж озлился на ее упрямое запирательство.
Словом, в наказание за обман государя, хоть и не доказанный, он распорядился посадить ее на хлеб и воду в один из подвалов Вознесенского монастыря и выпускать не хотел ни в какую.
Жаль было терять такой солидный козырь, но не оставлять же бывшую послушницу в беде, поэтому я твердо пообещал царю в обмен на ее свободу в течение двух, от силы трех месяцев отыскать ему келаря Чудова монастыря отца Никодима.
Только тогда он согласился.
Всерьез, и даже больше, чем я, опасаясь мести бояр, Дмитрий дал мне в дорогу сопровождающих – целых две стрелецкие сотни, причем, дабы я не подумал чего плохого, распорядился, чтоб я выбрал их сам.
Я даже не удивился этому разрешению. Кот Том продолжал забавляться с мышонком, по-прежнему пряча свои острые коготки до поры до времени. Жаль только, что он вновь выпустит их, не предупредив заранее, и поди догадайся, когда это произойдет.
Ну и пускай.
Разумеется, мой выбор пал на Чекана, у которого одним из десятников был как раз Щур, а вторую я позаимствовал у Брянцева, взяв сотню Андрея Подлесова, где служил Снегирь. Выезд я назначил через день после венчания Дмитрия – торопился, чтобы успеть во время предоставленной мне миром паузы собрать своих подопечных в одном месте, а для этого предстояло заглянуть в Ольховку.
Впрочем, за Федора со дня гибели Квентина я беспокоился гораздо меньше, уверив себя, что с царевичем ничего не должно случиться, пока я жив. Может, на самом деле и не так, но я заставил себя в это поверить, чтобы лишний раз не беспокоиться попусту, ведь сделать-то я все равно ничего был не в силах.
Кстати, как ни удивительно, но не только «божий суд», но и два других события – вначале похороны Квентина и Пепла, а затем и мой отъезд – не остались без внимания народа.
Первое собрало чуть ли не десяток тысяч – погибших защитников православного люда сбежались проводить в последний путь и с Китай-города, и с Царева, и даже с самых отдаленных слобод, расположенных в Скородоме и Замоскворечье.
Основная «заслуга» в том была самих поляков, ухитрившихся всего за какую-то пару недель с небольшим своего пребывания в столице настроить против себя буквально все население.
Моим бродячим спецназовцам стоило немалых трудов хоть как-то угомонить особо буйных, которые то и дело порывались учинить разборки с погаными латинами сразу, то есть в этот же день. Не похороны, а какая-то большевистская маевка с соответствующими призывами.
Ребятам то и дело приходилось тыкать пальцем на гробы с телами, охлаждая пыл горожан соответствующими цитатами из Библии, включая Екклезиаста-проповедника. Мол, всему свое время, и тут же напоминание про день завтрашний и «божий суд», на котором князь Мак-Альпин по поручению царевича Федора встанет горой на защиту православной Руси.
Только это и успокаивало.
Что до моих проводов…
Нет, скрывать я свой отъезд не собирался, тем более при таком стрелецком сопровождении утаить при всем желании не получилось бы, но ведь и особо не распространялся, ан поди ж ты…
С самого утра на всей улочке от моего подворья и вплоть до Знаменских ворот было не протолкнуться. Да и потом, на протяжении всей Тверской, по которой мы ехали, все обочины были тоже густо забиты толпой.