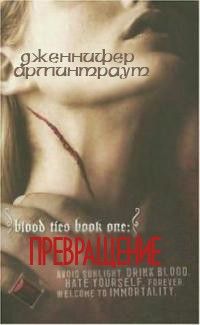Джон Толкин - Волшебные сказки (сборник)
Морской колокол
Вдоль моря я шел и ракушку нашел,
лежала в сыром песке,
Блестя от воды наподобье звезды,
и вот – заблестела в руке.
В ней звук зародился, потом повторился,
едва уловим, вдалеке:
Во мне он звучал, как волна о причал
или колокол на маяке.
И неторопливо с теченьем прилива
ко мне, вижу, лодка плывет:
«Все минули сроки, а путь нам
далекий».
Я сел и сказал ей: «Вперед!»
И вот наяву, как во сне, я плыву,
закутан в дремоту и мгу,
К неведомой мне вечерней стране
за бездной, на том берегу.
Так плыл я и плыл, а колокол бил,
раскачиваясь над волной;
Вот рифов гряда, где вскипает вода,
и вот он, тот берег иной.
В мерцающем свете там море, как сети,
где звездные блещут тела,
Над морем утесы, как кости, белесы,
и лунная пена бела.
Сквозь пальцы протек самоцветный поток –
жемчужен песок и лучист:
Свирель из опала, цветы из коралла,
берилл, изумруд, аметист.
Но там, под скалой, под морскою травой –
пещера темна и страшна,
И будто мороз коснулся волос…
Я – прочь, и померкла луна.
Бежал я от моря в зеленые взгорья,
напился воды из ручья,
И, вверх по теченью, ступень за ступенью,
в край вечного вечера я
Взошел – на ступень, где свет – это тень,
где падшие звезды – цветы,
Где в синем зерцале, как луны, мерцали
кувшинки, круглы и желты.
Там ива тиха и сонлива ольха,
не бьется река в берега,
Там на берег ирис мечи свои вынес,
и с копьями встала куга.
А небо все в звездах, и полнится воздух
музыкой у тихой реки,
Где зайцы и белки играют в горелки,
глазеют из нор барсуки,
И, как фонари, горят цветом зари
глаза мотыльков в полутьме, –
Там свирель и рожок, и танцующих ног
легкий шорох на ближнем холме.
Они, кажется, тут, но меня-то не ждут –
ни танцующих нет, ни огня:
Свирель и рожок от меня со всех ног,
и шуршание ног – от меня.
Трав речных-луговых я нарвал и из них
драгоценную мантию сплел,
С жезлом-веткой в руке и в цветочном венке
на высокий курган я взошел
И, как ранний петух, прокричал во весь дух
горделивый и резкий указ:
«Да признает земля своего короля!
Все ко мне на поклон сей же час!
Где же вы, наконец? Вот мой жезл и венец,
меч мой – ирис, тростина – копье!
Почему же вас нет? Что молчите в ответ?
Все ко мне! – вот веленье мое!»
И тут же на зов, словно черный покров,
тьма пала, и я, будто крот,
Пластаясь внизу, на ощупь ползу
то ли по кругу, то ли вперед;
Вокруг – мертвый лес, где опала с древес,
шуршит под руками листва:
Я сижу на земле, мысли бродят во мгле,
и кричит надо мною сова.
Год единый и день я сидел там, как пень,
и в трухе копошились жуки,
Ткали сеть пауки, из-под пальцев руки
грибы выросли, дождевики.
Ночь – как тысяча лет, но увидел я свет
и увидел я, что поседел:
«Пусть я прах и тлен, пусть я слаб и согбен,
но покину этот предел
И найду как-нибудь к морю путь!»
Брел я, брел. А летучая мышь
всю дорогу парила, перепончатокрыла,
Надо мной. Я кричал ей «кыш-кыш»
и шиповником бил. Весь изранен я был.
На плечах моих старости груз.
О вот дождь – и какой!
Пахнет солью морской и соленый на вкус.
Там чайки летали, кричали, стенали,
и кто-то в пещерах сопел,
Тюлень глухо тявкал, прилив в камнях чавкал,
а кит своим дыхалом пел.
Чем дальше, тем хуже, край суши все уже,
к тому же настала зима:
Лед на воде, лед в бороде, –
кромешное место и тьма!
И вдруг в полынье, вижу, лодка ко мне,
та же самая лодка плывет;
Упал я на дно, мне уже все равно –
куда хочет, туда пусть несет.
Вот остров тот, старый, где птичьи базары,
корабль весь в огнях, волнолом,
Вот берег родной, безмолвен и тьмой
укрыт, как вороньим крылом.
Был ветер и дождь. Дома била дрожь.
Присел я на чей-то порог
и в безлюдную ночь выбросил прочь
Сокровища дальних дорог:
Прочь с ладони песок, прочь морской завиток –
ракушка мертва и молчит:
На темный тот брег не вернусь я вовек,
и колокол не зазвучит.
Оборван и нищ, от скучных жилищ
вовек не уйду в белый свет,
Не встречу зарю. Сам с собой говорю,
ибо мне собеседника нет.
Последний корабль
Фириэль через стекло
Глянула в рассветки,
Золотой петух светло
Пропел у соседки.
Темен лес, бледна заря,
Но щебечет птица,
Тихо листья шевеля,
Ветер шевелится.
Так стоит она, пока,
Озарив округу,
Свет не прянул в облака,
В кроны и по лугу,
От росы седому, – тут
Белые ножки
На крыльцо ее несут
И вниз по дорожке.
От росы намок подол,
Шитый самоцветом;
Вот река – широкий дол,
Озаренный светом.
Камнем зимородок пал
В омут, синей вспышкой,
Камыши чуть раскачал
С желтой кубышкой.
У воды стоит она
В драгоценной ткани,
На плечах – волос волна
В утреннем сиянье;
Слышит: флейта на реке,
Арфа в отдаленье,
Колокольцы вдалеке,
Будто ветра пенье.
Вплыл корабль – златая грудь,
Белое кормило,
И ему торила путь
Стая белокрыла;
Вся команда корабля –
Эльфы в сребро-сером,
Их ведут три короля
К морю, к темным шхерам.
И поют три короля,
Вторя взмахам весел:
«О зеленая земля,
Еще много весен,
И восходов золотых,
И цветов застанешь,
И листочков молодых,
Прежде чем увянешь».
«Так зачем, зачем же вам
Плыть к речному устью?
Иль к скалистым островам,
Где чайки кличут с грустью?
Иль к лесам, где тьма весь год?
Или в край безлесный
Стая лебедей несет
Вас, народ чудесный?»
«Нет! – в ответ ей. – Не в пример
Дальше! Там, на створе
Западных угрюмых шхер,
Есть Призрачное море.
Мы пройдем его! Туда
Мы прорвемся, дева,
Где наш Дом, где Звезда,
Где – Белое Древо!
Прощай, смертный предел,
Средиземья пашни!
В Доме Эльфов прозвенел
Колокол на башне.
Мрет здесь зелень, на луне
И на солнце пятна;
Звон в далекой стране
Нас зовет обратно».
Встал корабль, примолкла трель:
«Дочь Земли, внемли же –
Фириэль! Фириэль! –
Звон как будто ближе.
Место есть на корабле,
Ты, как эльф, прекрасна,
К нам иди! На земле
Ты времени подвластна».
И решилась! Шаг… другой…
Только, все едино,
Расступилась под ногой
И сомкнулась глина;
И несла корабль вода
В дальнюю обитель:
«Не уйти мне никуда!
Мне Земля – родитель!»
На подоле у нее
Не было камений,
Когда шла в свое жилье,
На крыльцо и в сени.
Заплела она косу,
Затрапез надела –
В доме, в поле и в лесу
На день хватит дела.
С той поры немало лет
Прошло над Семиречьем,
И все тот же солнца свет
В мире человечьем,
Но на запад корабли
Не несет теченье,
Как в те дни. Они ушли,
И смолкло их пенье.
Кузнец из большого Вуттона
Случилось это все не так уж давно и не так уж далеко – это вам скажет всякий, у кого хорошая память и длинные ноги. Было на белом свете одно селение под названием Большой Вуттон. Он звался Большим, потому что был больше Малого Вуттона, который располагался в нескольких милях от Большого, посреди густого леса. Впрочем, Большой Вуттон тоже был не слишком велик, однако процветал. Жили в нем самые разные люди – и хорошие, и плохие, и так, серединка на половинку. В общем, как и повсюду.
Это было замечательное селение, и оно славилось по всей округе своими искусными ремесленниками. Но более всего знамениты были повара Большого Вуттона. В селении стояла специальная большая Кухня, принадлежавшая Совету селения, а Мастер Повар был очень важной особой. Дом Мастера Повара и Кухня примыкали к Большому Залу – самому большому, самому старому и самому красивому зданию во всем селении. Оно было построено из прочного камня и дуба, и за ним тщательно ухаживали, хотя теперь Зал уже не был ярко раскрашен и вызолочен, как в былые времена. Жители селения сходились в Зал, чтобы посидеть вместе и поговорить обо всем на свете. А еще в Зале проводились общие празднества и семейные торжества. Так что Мастер Повар был не только очень важной, но еще и очень занятой особой – ведь ему приходилось готовить достойное угощение к любому празднику. Праздников в году было много, а угощение считалось достойным, если оно было обильным и разнообразным.
Но одного праздника жители Большого Вуттона всегда ждали с особенным нетерпением, потому что это был единственный зимний праздник. Он длился целую неделю, а в последний день этой недели на закате устраивалось особое торжество, которое называлось Пир Хороших Детей. Приглашали на этот пир далеко не всякого. Конечно, не всегда на пир попадали именно те, кто больше всего заслуживал приглашения, а кое-кого, кто приглашения не заслужил, звали по ошибке; так уж оно бывает, как бы устроители ни старались. Но тут еще многое зависело от того, кому когда повезло родиться, потому что Пир Хороших Детей устраивался только раз в двадцать четыре года, и приглашенных на нем всегда бывало двадцать четыре, не больше и не меньше. Поэтому иногда его так и называли – Праздник Двадцати Четырех. По такому случаю всегда ожидалось, что Мастер Повар превзойдет сам себя и помимо всяких вкусных вещей, которые обычно готовятся к другим праздникам, испечет Большой Пирог. Именно по тому, как удавался этот пирог – а может, и не удавался, всякое ведь бывает, – и запоминали его имя: праздник бывал так редко, что мало какому Мастеру Повару доводилось печь Большой Пирог дважды.