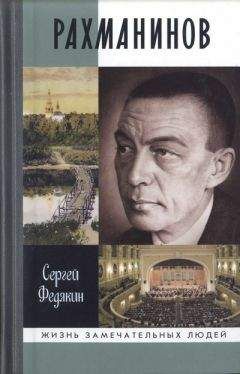Сергей Болотников - Тролльхеттен
Режущий глаза яркий вулкан на месте сгинувшей машины поутих, разошелся красноватым, насыщенным багровыми всполохами грибом. А потом с небес пошел стальной дождь из маленьких и больших железных осколков, рваной ткани, стекла и обгорелых частей человеческих тел. В наступившей после разрыва тишине печально стучал этот дождь, гремел железяками и предметами людского обихода. Брякнулась и задребезжала по асфальту хромированная надпись «Додж» — все, что осталось от машины убиенного ходока.
Финалом к этой боргильдовой битве послужил мягкий шлепок растрепанной тушки голубя, подбитого шальным осколком где-то высоко в дождливом небе.
Побитая машина Босха, треща по своим усиленным бронированием швам, скрылась за поворотом, роняя на землю тлеющие яркими светляками осколки чего-то неопределимого, то ли металла, то ли чьей-то сгоревшей одежки.
В глухой ватной тишине прошла дождливая ночь и уступила место у вселенского руля такому же дождливому сероватому дню. Первые его слабенькие робкие лучи коснулись вымокшей земли и осветили картину побоища. А еще через некоторое время стали собираться горожане — такие же робкие, притихшие, они вполголоса перекидывались впечатлениями. Чуть в стороне рыдала команда плакальщиц, состоящая в основном из родных и близких убиенных. Эти вопить начали еще до зари, и собирались продолжать весь следующий день.
Кто-то в стороне подбивал итоги.
— Я ж такое только в Сталинграде видал, вот те крест! — говорили в толпе, — ну прям война!
— Стены-то, стены гляньте! Дыры везде!
— Будто бомбили здесь…
— Черт, и колонку своротили! Где теперь воду брать?!
— Аа-ай, сердешные вы мои, и што вас в секту несло, за каким резоном, а?!
Жирное черное пятно перегородило Центральную, зияя немалой воронкой посередине. Сверху оно выглядело, как исполинская уродливая печать, навсегда оттиснутая на угрюмом лике города, печать под приговором, моментально разделившая бывших земляков на живых и мертвым. Рваные перекрученные осколки металла усеивали округу, странным образом обнаруживались в самых неожиданных местах, посверкивая из стен домов и посеченных стволов деревьев.
И кругом лежали трупы, обгорелые, изуродованные до полной неузнаваемости, многие скрючились, а у некоторых оружие частично вплавилось в тело. Жар был нешуточный. Руки, ноги, головы, почерневшие части бывшие когда-то целыми людскими телами. Почерневшие остовы машин лежали друг подле друга, как костяки вымерших доисторических животных.
В небо печально глядело полурасплавленное противотанковое ружье, которое по-прежнему прижимал к груди обратившийся в головешку владелец.
— Ну, прям как напалм… слышь, Санек, когда напалм, то точно так обгорают.
Тут и там между тел валялись флагштоки, оставшиеся от сгоревших знамен, и закопченные плакаты с Просвещенным гуру.
Сморщенная старушка подошла к сохранившемуся целиком телу, поверх которого лежал один из плакатов. Гневно плюнула на лицо Ангелайи:
— Что натворил, ирод мертвый! Сколько детей на смерть повел?!
И в ужасе отшатнулась, когда плакат вдруг шевельнулся. Потом она рассказывала, что ей показалось, будто сам Ангелайя попытался вылезти из плаката. Обгорелая, истыканная пулями фанера сползла и открыла удивленное до крайности лицо того самого тела, что оказалось живым и почти не пострадавшим. Это и был тот дерзкий представить пушечного мяса, всю бойню пролежавший под надежно укрывшим его плакатом. Удивление его было большим и всеобъемлющим, как Енисей в пору разлива.
Любители подбивать итоги уяснили одно — последняя власть покинула город. В огненной мясорубке сгинули лихие вояки Босха, держащие в своих руках все торговые точки, погибли все до единого послушники Просвещенного Ангелайи, и никто уже не заплачет над уходом единственного ребенка в страшную секту. Сгинули и остатки бежавшей официальной городской управы — семеро милиционеров и пятеро ОМОНовцев, тела их ровным слоем перемешались с бандитами и сектантами, слившись в последнем всепроникающем объятии.
На душе у горожан было странно и пусто, пахнущий гарью ветер свободы не кружил им головы, а лишь навевал еще большее уныние.
— Теперь все… — сказал кто-то, и все поняли, что да, город и все его жители вступили на какую-то финишную прямую. Долгий их путь почти завершен и теперь нет дороги назад.
В окружающих домах по-прежнему горели пожары, беспрепятственно выжигая одну квартиру за другой — их никто не тушил. Насмотревшись, горожане побрели прочь, по домам. Мимо них с чемоданами, забитыми до отказа, спешили те, кому жить было уже невмоготу. Они уезжали. Куда? Хоть бы один сказал, но они лишь отстранено улыбались и спешили прочь к своему непонятному светлому будущему.
День выдался удивительно холодный, и таким же был следующий. А с утра ударил заморозок.
Когда отключились телефоны, никто уже и не удивился. По ночам город стал напоминать Ленинград в годы блокады — тихий, холодный, пустой. Нет больше костров, нет веселых песен и быстрых знакомств. Только прошмыгнет иногда пугливый прохожий со стилем в кармане. Тень Исхода безносым обличием маячила в сознании, не уходила и уходить не собиралась.
Вместо звонков стали ходить друг к другу в гости и говорить лицом к лицу. У богатеев стало высшим шиком содержать десяток курьеров, которые как можно быстрее переносили сообщения. Причем, чем больше был штат разносчиков, тем лучше. На заправленных дизтопливом автомобилях вооруженные подобранным скорострельным оружием, разъезжали они по городу, и простые горожане испуганно шарахались, стоило увидеть эти быстро несущиеся дилижансы.
Но люди жили, продолжали жить и находили в этой жизни свои маленькие радости и маленькие горести. Ссорились и ругались, дружили и влюблялись, расходились и сходились вновь. Просто потому, что люди всегда остаются людьми, в какую бы ситуацию их не поставила судьба.
Вот только людей этих с каждым днем становилось все меньше и меньше.
* * *Любовь, что бабочка: во-первых, в неволе долго не живет, а во-вторых, с ней происходит все то же самое, что и с этим насекомым, только наоборот — она имеет свойство закукливаться, и некоторое время спустя из куколки вылезает нечто ничуть не похожее на исходный объект, и к тому же, весьма неприятное, умеющее жрать, гадить и ничего больше.
Так бывает. Еще корабль любви часто бьется о быт, почти всегда бьется о быт, что лишний раз доказывает — происхождение сего чувства явно потустороннего характера. Не потому ли рутина так часто заедает даже самые вдохновленные и романтичные натуры.
Проходит год, два, три и, посмотрите — где тот полет мысли и буря чувств?! Где нежные охи-вздохи и предложения притащить щербатую луну с небес? Где те милые, слезоточивые и словно вытянутые из пошленькой мелодрамы посиделки над рекой и чтение тут же забывающихся стишков вслух?
Спросите у Александра Белоспицына — большого знатока данного предмета, которого за всю его несчастную и беспокойную жизнь не приголубила ни одна особа женского пола, исключая, разве что, его собственную мать. Разочаровавшийся во всем и вся, скажет он вам — нетути! Сгинули, пропали, растворились, как уходит утренний вязкий туман, разгоняемый лучами набирающему силу солнышка, которое и высвечивает все с беспощадной, отрезвляющей ясностью. И килограмм макияжа на приевшемся лице любимой, и рыхлый животик бывшего поэта, а ныне здорового прагматика, потягивающего пиво у телевизора.
И так бывает. Так есть почти везде, скажет вам Белоспицын, тот Белоспицын, которого судьба еще не свела с врачевателем душ человеческих Владом Сергеевым. Хотя, если поискать, если хорошо поискать, можно и опровергнуть его подростковое неуверенное суждение.
Но это — если поискать.
Сколько-то дней минуло с тех пор, как он встретил ее на той скамеечке в парке? Да, он не помнил, знал, что было это в середине лета, и вокруг было совсем не так уныло, как сейчас. Они поняли, что друг без друга жить не смогут, у них было сильное и красивое чувство, так что про эти пылающие отношения можно было снять фильм — ту самую пошленькую, но слезливую мелодраму.
Он дарил ей цветы. Читал стихи, которыми, естественно, увлекался с отрочества (но никому не показывал, считая эту плохо срифмованную банальщину криком души, с кровью выдавленным из сердца), даже втайне от возлюбленной нарисовал ее портрет на толстом бумажном листе, увлеченно орудуя пером и черной тушью. Получилось не очень, но он решил, что это замечательный портрет — о да, он считал себя очень талантливым, талантливым во всем, он разрывался на части, пытаясь следовать этим талантам. Нарисованный портрет он сложил вчетверо, а потом еще в два раза и носил в своем бумажнике, иногда трепетно проводя по шероховатой бумаге рукой. Некоторое время спустя он достал портрет, развернул его и с досадой обнаружил, что лицо подруги жизни теперь испещрено прямыми и широкими, как панамский канал морщинами, там, где бумага слежалась на сгибах, из-за этого изображенная выглядела, словно ее рисовали на кирпичной, солидно порушенной стене.