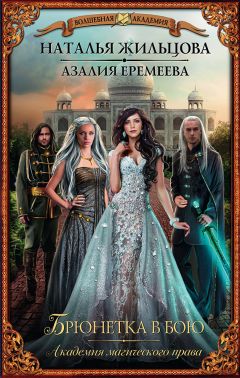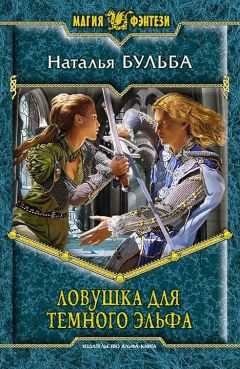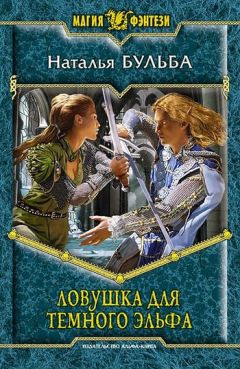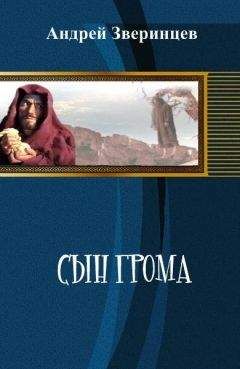Наль Подольский - Повелитель теней: Повести, рассказы
— Черный скрипач! — проговорил поэт, не зная сам почему, шепотом.
Рассеянно, как бы сомневаясь в существовании поэта, профессор поглядел на него, а может быть, сквозь него.
— Могучий дух… разрушитель… мятежный и страшный… давний враг и союзник… его путь скоро кончается…
Поэт испытывал неловкость, не понимая всех этих слов и чувствуя, что они не предназначены для его ушей. И спутнице его тоже они, видимо, были не очень ясны, к тому же и неприятны, и она недоуменно нахмурилась.
Профессор продолжил, все так же рассеянно:
— Теперь я с вами прощаюсь… идите и будьте счастливы.
В ответ она, вместо прощания, повторила фразу, сказанную уже ею раньше:
— Умоляю вас, Вольф, будьте разумны!
Она в темноте уверенно вела поэта за руку к выходу, спеша куда-то, и, опираясь на лестнице на его плечо, запыхавшись, говорила возбужденно и тихо:
— Как все странно и весело: я иду с тобою на бал… будет музыка, много людей, и мы с тобой вместе… вдвоем… я хочу танцевать с тобой… ах, я и забыла, разве поэты танцуют… но это неважно, ты все равно будешь со мной танцевать…
На улице было прохладно, и в руке ее чувствовалась легкая дрожь.
— Милый, скорее, скорее! Нам нужно успеть к двенадцати! Ты простишь ведь мне эту прихоть?.. Мы явимся ровно в двенадцать!
Они шли под деревьями, по мягкой сухой земле, и она бесшумно пружинила под ногами.
Но скоро, направляясь к мосту, они миновали последнее дерево, и первые же шаги по асфальту вторглись в тишину механическим жестким звуком. К нему на мосту прибавился режущий ухо скрип рассыпанного, как назло, тонким слоем песка. Было нечто неуклюже-неделикатное в их неумении перейти с одного берега на другой, не растревожив покоя ночных набережных.
На нее это тоже неприятно подействовало, и поэт чувствовал неловкость и даже невольную свою виноватость за явленную внезапно реальность мира.
Что-то вдруг изменилось. Рука ее лежала по-прежнему на его руке, но в прикосновении ее ощущалась теперь осторожность и напряженность; молчание, только что бывшее продолжением разговора, стало мучительным.
Они перешли мост и шли молча по другой стороне реки, шли как-то скучно и деловито, и пропасть беспричинного отчуждения углублялась все больше.
Она сделала попытку, как подумалось поэту из жалости, исправить положение:
— Что же вы молчите, поэт? Поговорите со мной о чем-нибудь!
Но прозвучало это капризно и по-чужому, и поэт, злясь на себя и за то, что слишком отчетливо видит ее беспомощность, и за собственную скованность, не мог больше произнести ни слова.
Молчание стало невыносимым, и для обоих было спасением приближение из темноты фасада дворца, белеющего смутно колоннами.
Окна его были совершенно темны, звуков никаких не было, и, недоумевая, откуда там могут быть люди или тем более праздник, поэт все же хотел повернуть к подъезду.
— Нет, нам не сюда, — поправила она его устало и тихо, но в голосе ее скользнул чуть заметный оттенок ласковой насмешливости, и по тому, какую теплую радость вызвал в нем этот ничтожнейший намек на близость, поэт понял, как много он потерял за последние десять минут.
Они обогнули дворец и прошли через садик к боковому его флигелю, и там, во втором этаже, окна светились.
Поднимаясь по лестнице и затем на площадке, готовясь нажать на кнопку звонка, она смотрела на поэта смущенно, словно не решаясь заговорить.
— У нас нет сейчас времени, я объясню все после… через десять минут, не позже, вам нужно будет вспомнить о неотложном деле и удалиться… постарайтесь, чтобы это вышло естественно… я потом объясню…
Эти десять минут в памяти у поэта остались тревожным и сбивчивым сном. Много народу и слабый свет, большая длинная комната перегорожена резной аркой, подпертой витыми столбиками; под настенной лампой негромко читали вслух какую-то книжку, и в другом конце при свечах пили чай. Их усадили за столик, она безучастно оглядывала присутствующих, иногда вяло кому-нибудь улыбаясь, и, видя ее профиль, поэт поразился, до чего она похожа сейчас на усталую птицу. Он пытался отогнать от себя это впечатление, считая его кощунственным, но она время от времени бросала тревожные взгляды по углам и на дверь, и от них ее сходство с птицей усиливалось.
Чувствуя, что он ей чем-то мешает, поэт собрался с духом, как если бы готовился прыгнуть в холодную воду, встал и сделал шаг к двери. Она благодарно ему кивнула:
— Спасибо… не огорчайтесь, худого ничего не случилось… я дам знать о себе.
Пробормотавши хозяину невнятные свои извинения, поэт вышел на улицу. Он брел вдоль набережной, касаясь рукою перил, и холод их, и ощущение твердости гранитных плит под ногами немного его успокаивали, помогая остановить и отодвинуть на задний план бесконечную вереницу мыслей, наползающих одна на другую и сплетающихся в нервные, неприятные и путаные клубки.
Глаза его постепенно привыкали к темноте. Ветер усилился, он будоражил кроны спящих деревьев, шумевших в ответ тоскливо и сонно, и заставлял корчиться отражения домов на воде. Они напоминали сейчас лица, чудовищные, ехидно гримасничающие: их окна десятками глаз поочередно щурились, вытягивались в ниточки и открывались снова, будто подмигивая; двери, как рты, широко разевались, глотая воздух, захлопывались и затем ритмично приоткрывались, что-то прожевывая.
Понимая, что не сможет уснуть, он, несмотря на усталость, прослонялся всю ночь по городу. Он удивлялся тому, что не замечал раньше, как похожи дома на прожорливых многоглазых чудовищ, как злобны и чутки раскрытые пасти дверей, как терпеливо подстерегают они редких прохожих, как беззвучно и ловко их втягивают в себя и глотают.
В сознании его возникали необычные сочетания слов и даже целые строки, яркие, с непривычным и красивым звучанием. Он их даже не старался запомнить и, придя на рассвете домой, не пытался записывать, а свалился в постель, не раздеваясь, и проспал чуть не весь день.
Вечером, не полностью очнувшись от сна, неуверенно, словно пьяный, он выбрался снова на улицу — и остатки сонливости улетучились мигом: город открывался ему по-новому, жутковатыми и манящими картинами, которые сами соединялись со звуками в прочный сплав, в стихотворные образы, хоть и мрачные, но притягивающие силой.
Ветер раскачивал фонари, и округлые мягкие линии, границы света и тени, плавно скользили вверх-вниз по стенам домов, то высвечивая окна желтоватым блеском, то погружая их в темноту. Это движение всегда завораживало поэта, но только сейчас он понял, что напоминали ему эти качающиеся тени — очертания крыльев летучей мыши. Легионы гигантских летучих мышей приносили ночь в город и, размахивая над ним бесшумными черными крыльями, закрывали от света глазницы домов, усыпляли их колыханием теней и насылали страшные сны.
Поэт перешел почти целиком на ночной образ жизни. Каждый день, вернее, каждую ночь у него возникали новые строки или даже полные стихотворения, он иногда их записывал на клочках бумаги под фонарями, иногда же хранил в памяти до возвращения домой.
В городе все для него стало живым — фонари и дома, каналы, колокольни, мосты — все обрело способность чувствовать и страдать. Поэт познавал один из соблазнов города: стоит его очеловечить, наделить мечущейся душой его стены — и все, что кругом происходит, превращается в непрерывную цепь трагедий, и уже невозможно избавиться ни от ощущения сопричастности к ним, ни от чувства вины, ни от ужаса, ни от режущей жалости. Боль наполняла каменный лабиринт города, и колокольни ночами, словно воздетые руки, тянулись к небу и молили об избавлении.
Особенно страшен рассвет тому, кто так ощущает город. Кончается ночь, и по мягкой земле бульваров, меж клумб и мокрых скамеек тяжело шлепают жабы — это старух покидают сны; потом серые когти рассвета раздирают покров темноты, царапают стены, скользят по стеклам; взрывается на востоке небо, и убитая этим взрывом луна всплывает, как мертвая рыба; исполинские клинки ранят небо, и сквозь раны его хлещет алая кровь зари.
У него изменилось даже восприятие цвета города. Если раньше весь город в целом казался ему серым и голубым, то теперь его преследовало впечатление больной желтизны:
На медных досках тротуара,
Шурша, разлегся лунный шелк,
Пятнист от лунного отвара,
От лихорадки лунной желт.
Мой шаг тяжелый, как раздумье
Безглазых лбов, безлобых лиц,
На площадях давил глазунью
Из луж и ламповых яиц.
[3]
Заметим, что наш поэт был несколько неопытен и наивен, но отнюдь не глуп и прекрасно понимал, что с ним происходит. Перечитывая днем, на свежую голову, свои ночные стихи, он чувствовал, что по большей части это неплохие стихи, но мало в них света и что столь любимый им город, оставаясь изысканно красивым, рисуется ему все более зловещим и мрачным. Но что он мог с этим поделать — ведь поэт идет туда, куда ведут его звуки и строчки.