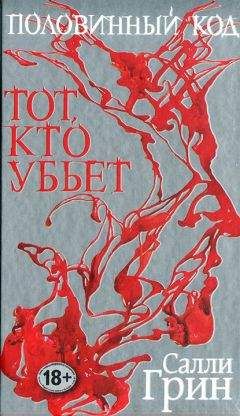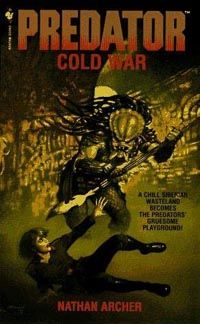Салли Грин - Половинный код. Тот, кто убьет
Это мне нравится. Мне нравится, что ее не пугают мои шрамы. Вообще-то не думаю, чтобы они ей на самом деле понравились, но, может быть, она не будет возражать.
Есть еще фантазия, которая мне не слишком нравится, но я не могу временами ничего с собой поделать и не повторять ее. В ней я живу в маленьком домике, среди прекрасной долины, на берегу быстрой неглубокой реки, вода в которой такая прозрачная и чистая, что серебрится и сверкает даже ночью. Холмы там заросли зелеными деревьями, в их кронах ноют птицы и жужжат насекомые. Лес полон зверья. Моя мама жива, она вместе со мной и папой в этом домике. Я почти все время провожу с отцом, мы спим не в доме, а в лесу, вместе охотимся и ловим рыбу. Мы часто бываем у мамы; она разводит кур и выращивает овощи. Летом в долине жарко и солнечно, зимой морозно, кругом лежит снег, и мы всегда жили и живем там все вместе. Мама с папой стареют, но они счастливы, а я не покидаю их, и каждый наш день прекрасен.
МЫСЛИ О МАТЕРИ
Когда я вернулся от Мэри, бабушка рассказала мне, что Маркус и моя мать были влюблены друг в друга. Но моя мать знала, что любить Черного Колдуна — «плохо». И чувствовала себя виноватой. Она вышла за Дина, родила от него детей и старалась стать счастливой, хотя на самом деле давно любила Маркуса, буквально с первого взгляда.
Интересно, продолжала ли она любить его, когда он убил ее мужа, отца ее детей?
Думаю, когда Дин застал Маркуса и мою мать вместе, произошло что-то вроде драки. Дин мог метать пламя из ладоней и рта — такой у него был Дар, но он сослужил ему дурную службу, потому что Маркус тоже владел этим Даром.
Когда же потухло пламя? Может быть, его язычки еще курчавились повсюду, когда Дин испускал дух?
И где в это время была моя мать? Рядом? Смотрела, как мой отец ест сердце ее мужа?
Легко ли ей было убивать себя, зная, что она всю жизнь любила человека, который лишает жизни других? Она любила убийцу большого числа мужчин, женщин и детей, она любила убийцу своего мужа, отца ее детей. Она любила того, кто ел людей. И когда она взглянула на меня и увидела, что я — вылитый Маркус, решила ли она, что знает, чего от меня ждать?
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
Теперь я прохожу Освидетельствования ежемесячно. Проводит их Селия.
Она начинает с того, что взвешивает меня, меряет мой рост и снимает меня на фото. Ни результатов измерений, ни снимков она мне не показывает.
Затем тестируется мое физическое состояние: скорость бега, результаты тренировок. Все записывается. Этих записей я тоже не вижу.
Потом мне тестируют память, общий интеллектуальный уровень, и я решаю примеры. Тут у меня все в порядке. Это же не письмо и не чтение, хотя, как говорит Селия, эти навыки тоже необходимо тестировать, но мы с ней прекрасно знаем, каков будет результат.
Вот так.
Следующий день я провожу в клетке, закованный. Она уезжает из дома утром и возвращается во второй половине дня. Может быть, встречается с кем-то, я не знаю. Я спрашиваю, но мои вопросы игнорируются.
Есть и еще одна перемена, о которой Селии сообщили только что: мне не надо ехать в Лондон на ежегодное Освидетельствование. На мой шестнадцатый день рождения Совет пожалует ко мне сам. А значит, я должен выглядеть как можно лучше.
ПАНК
— Ну и чего ты добиваешься?
— А?
— Вот этим. — Медленным кивком головы Селия показывает на мою голову.
Я ухмыляюсь.
Раз в месяц, перед Освидетельствованием, мне разрешается войти в дом и помыться как следует. Там есть горячая вода, правда, коричневая, как торфяная, и мыло. Я сбриваю волоски, которые курчавятся у меня над верхней губой и на подбородке. Бритва такая тупая, что хоть выброси, и я давно уже решил, что в качестве оружия от карандаша было бы больше толку. Раз в месяц Селия стрижет мне волосы, коротко, но сегодня я сам сбриваю их по бокам, и получается ирокез.
— Лучше бы ты сбрил их совсем. Так ты похож на монаха.
— То есть на того, кто чист душой и ищет Истину?
— Нет, на того, кто мягок и беззащитен. На неискушенного новичка.
— А это не про меня.
— Им лучше не перечить.
Селия хочет, чтобы я произвел хорошее впечатление. Наверное, мой успех хорошо отразится и на ней.
Я сажусь за стол.
— А теперь что?
— А теперь я буду сидеть здесь и ждать, а ты пойдешь в ванну и сбреешь всю эту чепуху.
— У вас нет чувства юмора.
— Вид у тебя невероятно забавный, должна признать, но будет гораздо лучше, если ты пойдешь и сбреешь все сам, по доброй воле.
Я возвращаюсь в ванную. Из зеркала на меня глядит незнакомец. Нет, с волосами у него все в порядке, пушистый такой куст. Просто я не узнаю себя.
Наверное, отвык от зеркала. Я наблюдаю, как человек в нем расчесывает волосы, вижу его правую руку со шрамом, которой он держит расческу, а это точно моя рука. Но вот лицо чужое. То есть я знаю, что оно мое, на нем мои шрамы: один под глазом — его оставила Джессика, другой — белая полоска на фоне множества черных точек — там, где я обрил волосы, от камня, которым меня когда-то треснул Ниалл. И все равно мое лицо выглядит совсем другим, не таким, как я его помню. Оно стало старше. Намного. Глаза большие, темные, и даже когда я улыбаюсь, в них нет и тени веселья. Они как будто мертвые внутри, и в них медленно вращаются черные треугольники. Я наклоняюсь к зеркалу, чтобы разглядеть, где кончаются мои зрачки и начинается радужка, но стукаюсь лбом о стекло. Я отступаю в дальний конец ванной, отворачиваюсь и быстро поворачиваюсь к зеркалу снова, надеясь уловить что-то, какой-нибудь проблеск света. Ничего.
— Что так долго? — кричит Селия.
Я беру бритву и снова кладу ее на место.
Минуту спустя я выхожу.
Она начинает хохотать, но тут же спохватывается и говорит:
— Ну, это уже глупо. Сними.
Я ухмыляюсь ей и щупаю бровь. Я продел в нее три маленьких железных колечка, кольцо побольше продел в правую ноздрю, другое такое же — в левый край нижней губы.
— Это часть моего прикида. Я панк. — Я провожу пальцами по ошейнику. — Жалко, булавок в нем нет.
— Где ты взял эту штуку, которая у тебя во рту?
— Снял с цепочки от затычки для ванной.
— Что ж саму затычку не повесил? Выглядел бы полным дураком.
— Вы старая уже, ничего не понимаете.
— Может, вернемся к моему первому вопросу? Чего ты добиваешься?
Я смотрю в окно, на холмы и небо, бесцветные от светло-серых облаков, плывущих высоко в небе.
— Ну?
— Свободы от преследований. — Я говорю это спокойно, даже невыразительно.
Молчание.
— Как вы думаете, я когда-нибудь этого добьюсь?
Никакого движения снаружи; ветер не ерошит вереск на склонах холмов, не гонит облака.
Вечером того же дня я рисую. Карандашом — чернила и уголь кончились. Карандаш тоже нормально. Я уже нарисовал растения и животных, которых видел здесь. Несколько моих рисунков Селия отложила в сторону, чтобы показать Совету. Меня так и подмывает спросить: «Чего вы этим добиваетесь?» — но я решаю, что не стоит, все равно ответом мне будет равнодушный взгляд.
Я рисую Селию. Она терпеть этого не может, но так еще интереснее. Рисую я беспощадно: с бородавками и всем прочим. Пленных не берем. Рисунок она потом сожжет. Она всегда сжигает свои портреты. Меня как художника это нисколько не задевает — проблема тут в самой натуре, а не в ее изображении.
Еще я рисую автопортреты, но только своей правой руки. Расплавленная кожа на ней напоминает потеки густой масляной краски, каждый заканчивается не до конца затвердевшей каплей. Кожа на тыльной стороне руки, между потеками, вспучилась и потрескалась, тоже как старая краска. Моя рука — искусство.
Я рисую свою руку, сжимающую тонкий, длинный кинжал, как две недели назад. Следя за мной, Селия так долго не дышала, что я думал, она потеряла сознание. Я смял рисунок и со словами «Чепуха какая-то» швырнул его в огонь — она не успела меня остановить. Больше я так не рисовал, это было совсем не интересно.
Пейзажи у меня обычно дерьмовые. Не получаются они у меня, и дома тоже ужасно скучные. Но клетку я все же нарисовал. Ухватил сходство. Передал ее бессмысленную черноту, ее стремление держать и не пускать. Я ведь так хорошо ее знаю, свою клетку. Это мой шедевр. Я сказал Селии, что этот рисунок надо послать Совету Она не ответила, но больше я той картинки не видел. Наверное, она ее сожгла.
— Они будут здесь к концу утра, — говорит она, пока я рисую. — Я взвешу и сфотографирую тебя до их приезда.
— Волнуетесь?
Она не отвечает, и я отодвигаюсь, ожидая пощечины, но она не клюет и на эту наживку.
— Я не напортачу. Не бойтесь. Буду хорошим мальчиком и отвечу на все их вопросы как следует. И плеваться не буду, ну, только в конце.