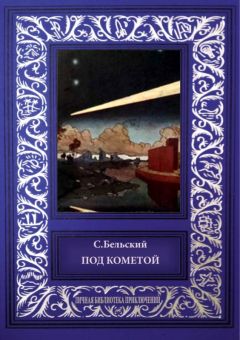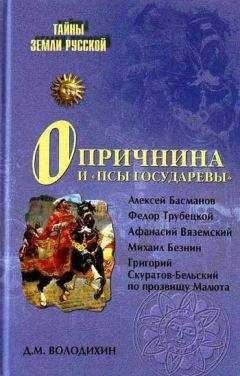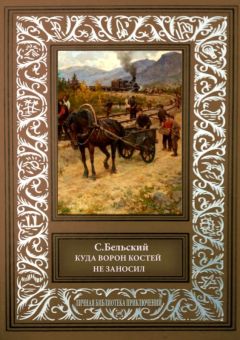Аноним - Канал имени Москвы
Хардов вздохнул:
— Сегодня ты встретилась со своим первым медведем, Ева. И здорово наваляла ему. Я горжусь тобой. Ты спасла нас всех, а что может быть ценнее?.. Но на то он и медведь, чтобы прилично нас намять. Только ранки затянутся и даже зудеть перестанут. Первый — он самый главный и самый сильный, потом намного проще. Но я хотел рассказать тебе не об этом…
Хардов теперь знал, что это была не просто «первая ласточка», оборотни не просто следили. Они подошли очень близко. Совсем. Они крались рядом, преследовали их группами и молча. Они ждали, когда Королева снова поднимется и обретёт силы. И тогда они сразу нападут. А Ева всё ещё не слышит его…
— Вообще-то хотел рассказать другое. — Хардов снова безмятежно улыбнулся, словно позволил себе самое светлое воспоминание. — Эта маленькая девчушка, я тебе говорил, оказалась очень славной. Наверное, ей было три года или четыре… «Да, — ответил я на её вопрос, желая подыграть ей. — Ты права, я подрался с медведем». Она поджала губы, всё ещё строго глядя на меня. И я понял, что, сам того не желая, напугал малышку. «Я ему задам!» — пригрозила она пальчиком. Но стала всё чаще спрашивать, не придёт ли за ней этот медведь ночью? Ведь даже если ты, такой большой и сильный, и то тебе досталось, а она ещё совсем маленькая… И тогда я решил рассказать ей про добрых медведей. И знаешь как? Я сочинил для неё песню. Колыбельную. Как только пошёл на поправку, так и сочинил.
Оборотни показались внезапно. Они больше не прятались. Несколько тварей устремились к развалинам, где таился лазутчик, перекрывая им путь к тракту. Вот каких ты теперь принимаешь постояльцев, «Мотель Норд»…
— Я спел ей песню про добрых медведей, которые охраняют её сон. И всегда будут охранять. И она больше не боялась, Ева.
Эта дымка слева теперь не была пустой. Крупная светловолосая тварь, женщина, передвигающаяся на четырёх мощных конечностях, вынырнула, совершила несколько прыжков и снова скрылась в ней. А где-то в оставленном за спиной городе нарастал лающий хор голосов, ликующее завывание. Словно дикари из детских книжек готовились к нападению. Хардов оглянулся и понял, что не ошибся. Успел подумать: «Как жаль. Тракт был совсем рядом».
Он не ошибся. Королева восстановила силы. Погоня началась.
— Да, пел ей колыбельную…
Оборотни у «Мотеля Норд», хищно скалясь, опасливо двинулись на них.
— …и она больше никогда не боялась. Не надо бояться.
Хардов снял оружие с предохранителя и затем сделал то, чего никогда никто от него не ждал. Он запел.
35
Когда до тумана оставалось несколько шагов, Раз-Два-Сникерс извлекла ракетницу из пазуха поясного ремня. Туман полз клином, в острие которого тёмным пятном угадывалась фигура Шатуна.
Её руки стали совсем холодными. Но скорее от напряжённой сосредоточенности. Она ждала. Страх, наверное, достиг такой иррациональной величины, что перестал ощущаться.
Она заставила себя действовать. Быстро отступила в проулок, ведущий вверх по склону, обратно в звонницу. Клин, не останавливаясь, полз мимо. Взгляд Шатуна равнодушно скользнул по ней и устремился вперёд, вслед за беглецами. Её не тронули. Но вовсе не из милосердия. Она поняла это. И уж тем более не из-за остатков сантиментов. Она просто больше не представляла интереса, как букашка, случайно оказавшаяся на дороге, но если сама не уберётся, то в тумане будет кому с ней разобраться.
— Эй! Я не заслужила такого безразличия! — с внезапным возмущением громко выкрикнула она. В других, нормальных обстоятельствах, обида на невнимание показалась бы ей дикостью. — Не хочешь хотя бы поздороваться?
Она услышала свой собственный нервный смешок и поняла, что время игр кончилось. Всё же она сказала:
— А ведь я могу остановить тебя.
Туман так и двигался дальше, но фигура тёмным пятном заскользила по стенке клина и, колышась, повисла над ней. Очертания тела куда-то пропали, но голова, лицо сразу увеличились. В дымных, лишённых выражения глазах Шатуна плескались багряные отсветы.
Она показала ему ракетницу:
— Знаешь, что это такое?
Взгляд Шатуна оставался непроницаемым, но голова угрожающе накренилась. Раз-Два-Сникерс отступила на шаг и тут же увесисто покачала ракетницей в руке.
— Это сигнал. Я заминировала дверь в «Комсомольской», где ты сидишь. А это сигнал.
В глазах Шатуна наконец блеснуло выражение недоуменной задумчивости, словно он не знал языка, на котором она говорит, да и вообще не понимал, кто она такая.
Раз-Два-Сникерс сделала ещё пару шагов назад. С трудом удерживая себя, чтобы не развернуться и уже бежать без оглядки. Укрыться в звоннице и забиться там в угол, пока её не спасут. Ведь Хардов обещал… Но она взяла себя в руки. Её дело ещё не окончено.
Голова покачнулась, но осталась на месте.
— Такая вот неожиданность, — сказала Раз-Два-Сникерс насмешливо. По крайней мере, ей хотелось бы говорить насмешливо, хотя всё внутри неё онемело. — Достаточно мне сделать выстрел, и по сигналу ракеты дверь будет немедленно взорвана. И всё! Конец. Я же сказала, что неожиданно… Но мы могли бы договориться.
Мыслительная работа продолжалась пару секунд. На протяжении которых в глаза вернулось человеческое выражение. Человек, который ещё полностью не исчез, не до конца растворился в этом дымном призраке, был озадачен. Потом всё стало чередоваться. В глазах промелькнули понимание, страх, раздражение, гнев… А затем эти багряные отсветы заставили глаза налиться хищной беспощадностью зверя. Туман остановился, хотя и с трудом, словно кто-то заставлял Шатуна двигаться только вперёд, вслед за беглецами. Шатун, накренив голову, как бы стараясь вырваться из окутывающего его тумана, чтобы устранить угрозу, двинулся на Раз-Два-Сникерс.
— Что, малыш, у вас с твоими новыми приятелями, оказывается, разные цели? — и теперь её презрительная усмешка вышла действительно настоящей.
Туман ещё сопротивлялся, но затем, изменив направление, быстро пополз к ней. Голова Шатуна опять чудовищно трансформировалась, шея вытянулась, и жалящий ужас ледяными пальцами потянулся к горлу Раз-Два-Сникерс. Потому что на короткое мгновение ей показалось, что она видела перед собой голову змеи. И чем-то чудовищно-притягательным полоснуло из её глаз…
— А вот теперь беги! — сказала себе Раз-Два-Сникерс.
* * *(Мы теперь свободны. Тебя не тронем. Не бойся. Только не делай больше нам больно. Мы заберём мужчину и уйдём. Иначе убьём всех.)
Ева молчала. Она хотела, чтобы эти голоса оставили её в покое. Она хотела забыться и не слышать больше ничего. И не испытывать ничего. Даже боль прошла, она хотела только неподвижного покоя. Ещё, словно эхом от той Евы, что могла чувствовать, пришёл тупой укол ненависти к себе, но это, видимо, была последняя сколько-нибудь сильная эмоция. Дальше пришло полное безразличие, ровное и белое, как кафельная поверхность. Высохшая пустыня внутри.
(Мы заберём мужчину. Это наша драгоценная ноша. А ты со своей ношей можешь уходить.)
Ева молчала. У неё нет никакой ноши. Все эти слова обозначали что-то неявное, потеряли смысл. Когда всё теряет смысл, остаётся чудесный спасительный покой.
(Мы заберём своё — силу. Наша ноша. А ты своё. Только не делай больно.)
Больно? Да, наверное, она что-то помнит такое. Но в покое нет боли.
Она вдруг услышала, что ей мешают. Какие-то слова стучатся в кафельную плитку покоя. Хардов что-то говорил ей, но ведь она не понимает неявное выцветшее значение слов. Нет, наверное, всё-таки понимает. Только ей безразлично. Он говорит, что должен куда-то уйти, только ей всё равно. Куда-то уйти, и она останется одна со своей ношей. Но что это они все заладили про ношу?
Безразлично…
Только слова становятся назойливыми и растягиваются. И лезут. Они лезут к ней, кроша кафельную поверхность, и от этого ей нехорошо, какая-то тяжесть… Она не хочет этих назойливых, растянутых слов, потому что они могут вернуть боль.
Это не слова. Это песня.
Хардов поёт? Зачем?! И откуда он знает об этом? Этой песни нет на самом деле. Она её выдумала. А потом забыла. Куда её тянет эта забытая несуществующая песня? В то место, куда-то далеко-далеко, где всё осталось по-прежнему? Но этого места тоже больше нет. Как и песни.
И кто пел её? Чей это был голос, охранявший границы детства, успокаивая, обещая защитить от боли и чудовищ? Ей потом больше никогда не пели этой песни. И она решила, что это выдумка, детская грёза типа невидимого друга. Она забыла. Ева давно забыла эту песню, и та не подстерегала её даже на тропинках её снов. И песня исчезла. Как уходят все выдуманные друзья.
Так зачем?!.. Это нехорошо. Жестоко.
Что-то проникло в дальнюю-дальнюю кладовую памяти, от которой и ключ-то был давно утерян. Проникло, разворошило. И извлекло на свет то, что, оказывается, действительно существовало. Ева её услышала, эту песню. Стало горько. Невыносимо. Ей захотелось закрыться, но эта горечь колыхнулась, готовая перелиться через край. И в этом обступившем тяжестью мутном трепете было столько боли и столько света, нежного, от которого можно задохнуться, что Ева не выдержала.