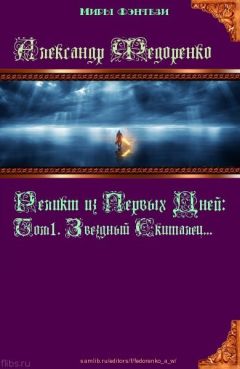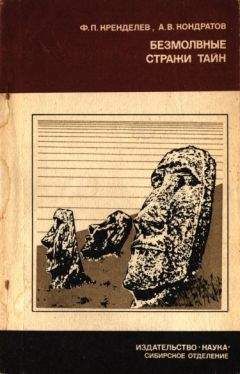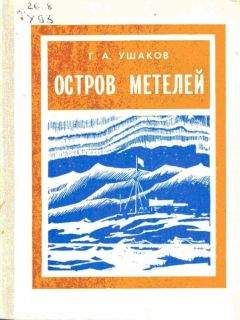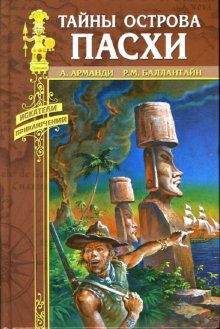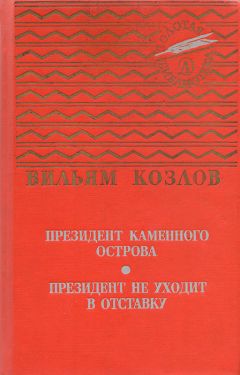Лев Прозоров - Евпатий Коловрат
Борисов-Глебов.
Перевитск.
Нет живых. Сытые вороны смотрят с обугленных венцов теремов и избушек. Серые тени мелькают по пожарищам.
Мертвая земля.
Только и знать, что не все полегли — навьи трапезы на снегу. Пеплом посыпанная поминальная снедь да короба с зерном.
В Любичах первый раз попытали дареную Велесову силу. Попробовали поднимать мёртвых. Слова дались легко, словно нашептывал кто. Тяжелее было смотреть на то, как отрываются от снега, с хрустом, с мясом, тела стариков, детей, жен. Как бредут одеревенело, как глядят в пустоту заледеневшими глазами. Как цепляются мёртвые дети за мёртвых матерей, жёны — за мужей, словно и сейчас помня себя — мутно, сквозь смертный сон, но помня…
И на то, как они падают наземь при первых лучах рассвета.
Былью обернулись старые сказы. Солнце убивало поднятых мертвецов. Без толку потрачены чьи-то непрожитые жизни, зачерпнутые в Велесовом котле, впустую. Умруны повалились колодами на розовый утренний снег. А они, навьи, мертвецкие пастухи, попятились в лесную тень от жгучих лучей, заслоняясь пятернями. Попутчиков-Мирятичей трясло, как листы на осине.
— Ну что, не раздумали с нами-то? — переспросил Коловрат, зажмурился, оскалил зубы по-волчьи на утренний свет, что ныне резал глаза ярче полуденного.
Девятко переглянулся с Пестром и Налистом — и все трое дружно затрясли головами.
— Глядите, — только и проронил воевода.
От солнца укрылись в овраге, обросшем мохнатыми старыми елями. Охотники-вятичи разложили костерок, грелись.
- Чурыня, — окликнул Догада. — А у тебя только батя певец был или и сам?
— Да вроде Хозяин тем не обидел…
— Так спой чего, что ли…
Последние ночи слышали они разве что пение волков, перекликающихся над сожженными городами. Вот про волка и споёт… Чурыня вдохнул морозный воздух.
Песню пропой мне, волк-одинец,
Зеленоглазый мой брат,
В час, когда туч пробивая свинец,
Зимние звезды горят.
Спой мне, что горе с тоской не навек,
Кончится время беды.
Спой мне, что скоро окрасят снег
Крови свежей следы.
Капает с белых клыков слюна,
В ноздри бьет страх чужака.
Кто говорит, будто кровь солона?
Врете — она сладка!
…Русскую землю укрыли снега,
Саван метели ей ткут,
Месяц острит молодые рога,
Холод предутренний лют.
В небе сквозь тучи звезда-студенец
Светом багровым сверкнет…
Песню печальную волк-одинец
Стылому бору поет.[2]
Долго молчали. Наконец, воевода Коловрат приоткрыл опустившиеся было веки, улыбнулся:
— Ладно поешь. На сердце… прояснело.
А старый Сивоус примолвил:
— Не зря твой отец с самим Бояном равнялся, видно.
Мертвых на побоищах больше не тревожили — покуда орды не видать. Уж чего-чего, а остывших тел нынче хватало, долго искать бы не пришлось. Вскоре же их увидали в числе попросту несказанном.
Там, где был город Коломна, тела в доспехах усыпали весь берег. Тела лежали на льду и даже за Окой — воины разбитой рати искали спасения там, в лесах… Добежали не все… если вовсе добежал кто. Другие пытались укрыться в городе. И на их плечах в город ворвался враг. Ворота так и остались распахнуты, как рот мертвеца, и вспухшим языком между челюстями казалась щетинящаяся от стрел груда мертвецов промеж створками.
— В самый бы раз, как Тугарину княжичу, когда он к той Маре-Марене ездил, окликнуть — есть ли, мол, живой человек… - оглядываясь, проговорил Чурыня. — А он бы нам сказал, что то за сила, кто побил…
— Нынче и живого не надобно. Так спросим, — хмыкнул Златко, бывший Гаврило.
— Вот уж не к чему, — покрутил усом Сивоус. — Вон щиты наши. А вон, гляньте, со львом-зверем на дыбках — володимерские. Выслал, видать, Юрий Всеволодович, подмогу, не в пример Михайле Черниговскому….
— …И всей той подмоги достало тут полечь… — проговорил Догада.
— Сивоусе, подъедь, — окликнул воевода. — Доспех знакомый…
Только по доспеху лежавшего и можно было признать. Головы не было — видать, разжился добычей чужак. Может, и царю своему отвез на потеху — доспех знатный. Дощатый набор, вроде позолоченный даже, с круглой пластиной-зерцалом на груди, на ней Богоматерь-Одигитрия воздела руки, оберегая. Рядом с щитком — дыра от удара копейного, что щит с львом-зверем расщепил. А портов нет — не побрезговали чужаки с покойного стащить.
— Как, поди, незнакомый, — проворчал старый гридень. — Еремей это, Глебов сын, воевода, что, слышал, Всеволоду Юрьевичу нынче служит… служил, стало быть. А мне ведь при отце твоем, воевода, с ним переведаться приходилось, как они на наш город ходили. Тогда думалось, злее врагов не будет… А теперь — как во сне всё привиделось.
Все замолкли. Звезды мерцали над еще одним мёртвым городом, над побитой ратью двух князей.
От ворот города радостно закричал Глуздырь:
— Живые! Воевода, живых нашли!
— Ну, Чурыня, вот тебе твой «живой человек», — усмехнулся Сивоус, поворачивая коня на крик.
Живой, по правде сказать, был один. Взъерошенный парень, с молодой светлой бородою, в кольчуге поверх стеганого подлатника, в прилбице и без шлема.
— Кто таков будешь? — спросил с седла воевода.
— А ты это, добрый человек, вон у того своего гридня спроси, — ткнул «живой человек» пальцем в Головню. — Он, как послушать, про меня много чего такого знает, чего и сам за собой не ведаю. И с матушкой был знаком, и с бабкой… а с виду и не скажешь…
— Кольчугу изгадил, паскуда, — огрызнулся на взгляд воеводы рыжий гридень. — И кольчугу, и тулуп, и рубаху… да и больно, мать твою через тын…
— Кто ж тя разберет по ночи-то, кто ты есть, — без раскаяния пожал плечами светлобородый. — Думал, поганин отбившийся… слышу — верхом, а мне б конь не помешал. Я, промеж прочим, и по сю пору не знаю, кто вы такие. Что не нелюди эти, уже разобрался.
— Не эти, — усмехнулся Чурыня. — Не эти, другие…
— Какие еще другие? — моргнул «живой человек».
— Ты про навьих слыхал?
— Я много чего слыхал… особливо на Осенние Деды да на Карачун ввечеру, — усмехнулся светлобородый.
— Теперь гляди.
Светлобородый оскалился засмеяться, поводил глазами по лицам — и обронил улыбку с губ.
— А ты, земляк, не шутишь… то-то гляжу, глаза у вас, как у рысей, в темноте светятся, думал, показалось… Погодь, так я, — обернулся к Головне, — и впрямь тебе полпера от рогатины в спину вогнал?! Не померещилось мне?