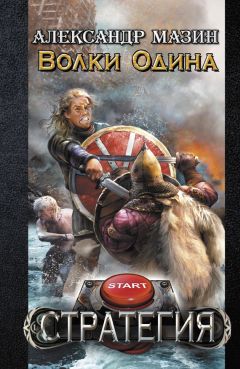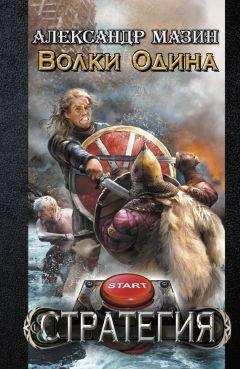Лев Прозоров - Евпатий Коловрат
— Nu chtozh ty, poganskij vojevoda, — раздался полный ледяной ласки голос Алёнки, дочки Никольского батюшки Ефима, говоривший на так и не ставшем Эбугену понятным языке. — U nas zа dоbrо dobrom platjat. Ту mne chest' okazal, teper' ja tebja pochestvuju. Ja tebja grela, teper' ty menja sogrej.
Острые зубки блеснули между приоткрывшимися синими губами.
Эбуген закричал. Ему казалось, что кричал он бесконечно — на самом деле это было не так уж долго.
Во всяком случае, кричать он перестал много раньше, чем в его жилах кончилась кровь.
Глава 2
Непобедимый, Пёс-Людоед Живого Бога
Это — четыре пса Темучжина, вскормленные человечьим мясом; он привязал их на железную цепь; у этих псов медные лбы, каменные зубы, сердца из стали и шила вместо языков; в бою пожирают они человечье мясо. Теперь они спущены с цепи; у них текут слюни; они радуются. Эти четыре пса — Чжебе, Хубилай, Чжелме и Субудай.
того, бесследно пропали тридцать и две десятки, отправленные за зерном, скотом и пленниками, и три сотни, отправленные на розыски, — бесстрастно заключил писарь-уйгур, выводя каламом на листе бумаги заключительные цифры подсчёта.
Выглядел он здесь странно. В чёрной юрте не жаловали ни чужаков — разве что в виде подвешенных в дымоходе за волосы коптящихся голов, — ни грамотеев, а уйгур был и тем и другим.
Конечно, многое объяснял синий халат, свидетельствующий о службе роду Небесного Воителя, — здесь и сейчас это обозначало службу Джихангиру.
Хозяин юрты сидел на покрытом войлочными кошмами возвышении и глядел на тысячника единственным глазом. Тысячник не смотрел ему в лицо, напротив — сидел, склоняясь лбом почти до простых узоров ковра.
— И ты, — медленно процедил хозяин чёрной юрты, касаясь сухими губами поверхности кумыса в костяной чаре, — ты, сын верблюда и свиньи, отрыжка желтоухой собаки, вошь на яйцах старого яка, говоришь мне, что никто из этих людей…
Чара вновь подплыла к губам.
— …Никто из наших людей не вернулся?
Говоривший не торопил с ответом. Он был человеком степи, не ханского дворца или хорезмийского базара, а степи. Ему омерзительна была привычка спешить словами — слишком часто у людей дворца и людей базара слова опережали мысли — и сильно, на много дневных переходов отставали от дел.
И в юности его лицом не прельщались девицы, полвека сражений не сделали его красивее. Уродливый шрам рассекал левую скулу, бровь и лоб над пустой глазницей. Левая рука, которую когда-то пробило вместе с лёгким кочевничьим щитом копьё, ссохлась и вряд ли удержала бы даже чару с кумысом, но и с одной рукой он был в бою опаснее многих молодых и здоровых. На выдвинутой вперёд челюсти топорщилась редкая седая щетина. Чёрный чапан и чёрная шапка были скроены добротно, но просто. Многие в белой юрте полагали, что вызывающе просто, — но полагать они предпочитали молча, самые же отважные полагали это в отсутствие одноглазого старика.
Последний из прославленных песней Псов-Людоедов Потрясателя Вселенной смотрел на тысячника со своего возвышения, ожидая ответа. Не поспешного, но и не медленного. А главное — толкового.
От пресловутой коновязи их отделял лишь входной полог чёрной юрты.
— Лучше б и впрямь никто не вернулся… — прошептал тысячник.
— О чём это ты там толкуешь, помёт течной кобылы?
— Непобедимому стоит взглянуть. Я привёз одного, он примчался в лагерь нынче на рассвете.
Полководец шевельнул уцелевшей бровью. Двое нукеров в чёрных чапанах у входа отдали одинаковые поклоны и, будто одним и тем же движением, покинули шатёр. Потрескивал бараний жир в светильниках и багровые угли в жаровне. В курильнице-уталгаа чадили степные травы.
Вскоре чёрные чапаны явились вновь, волоча за связанные локти человечка. Отчего-то он казался маленьким — хотя для цэрега был самого обычного роста. Его за связанные локти выкинули на середину ковра и отступили на привычное место под войлочными стенами, он же скрючился так, словно пытался уместиться на самом мелком из узоров ковра, да никак не получалось.
Непобедимый шевельнул сухой рукой, и тысячник проворным жуком подобрался на четвереньках к подножью его возвышения. Сжал зубы, ощутив, как упирается в спину сапог — и наливается на мгновение немалым весом старого полководца. Потом тяжесть ушла. Продолжая прихлёбывать из костяной чарки, прозванный Непобедимым старец подошёл к елозящему ногами в мягких ичигах и просторных штанах человечку. Потыкал носком сапога в затянутый избура-серым чапаном бок.
— Мёртвые поднялись! — вдруг визгливо выкрикнул связанный, вскидывая к нему разбитое в кровь, помороженное лицо. Вышло это так резко, что Непобедимый едва не отшатнулся. — Мёртвые встали! Лица, как снег, волосы, как снег, голоса, как снег! Мёртвые поднялись!
Он зарыдал, продолжая завывать сквозь рыдания:
— Поднялись, поднялись! Морды в шерсти, а на шерсти — кровь, кровь на губах, кровь, а глаза ледяные, лёд в глазах, лё-ооод! Идёт, а брюхо разрубленное, и потроха видно… лёд, лёд в глазах… Колдуны их ведут, страшные, большие, смерти не знают, их стрелами бьёшь, они встают, их копьём колешь, они встают, саблей рубишь, они встаюуууут, встаюууууууут! Крылья за спиной, крылья… Мё-ортвыееееее!!!
— Заткнуть, — равнодушно бросил Непобедимый. Повернулся к своему помосту, здоровой рукой опустив опустевшую костяную чару в пустоту, мгновенно, впрочем, проросшую заботливо подставленными ладонями. Зажурчал кумыс, но Непобедимый взмахнул рукой — и бурдюк с костяной чарой и держащий их юноша в чёрном словно растворились в тенях чёрной юрты. Зато объявились двое нукеров в чёрном, засунувших в хрипящую пасть связанного толстое кнутовище и выволокших его прочь.
Вот так же невзначай, говорили в орде, тени чёрной юрты прорастают тетивой, ложащейся на твоё горло…
Тысячник сглотнул и свёл покрепче челюсти, вновь принимая на спину тяжесть семидесяти лет — и семидесяти выигранных сражений.
— Многие ли его слышали? — старческим равнодушным голосом спросили сверху.
Тяжесть ушла, зато заскрипел помост под войлоками.
— Его вели через лагерь… это моя вина, Непоб…
— Вина, — бесстрастно прервали его, — лежит на твоей матери, со скуки сошедшейся с бараном. Объявить, что этот желтоухий пёс бросил своих соратников, испугавшись урусутов. Объявить также, что он усугубил эту вину тягчайшей, пряча свой позор за бабьими сказками про покойников. Объявить, что каждый, кто станет повторять их, разделит и мой гнев.
— Внимание и повиновение, — откликнулись от входа.