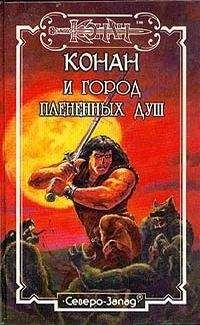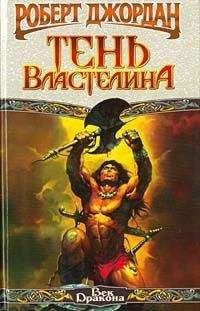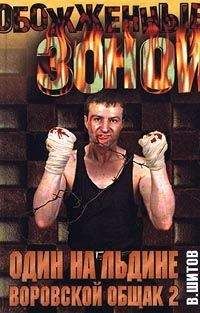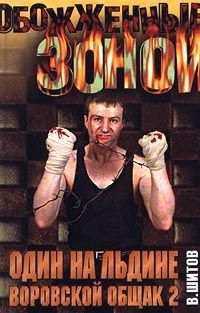Владимир Лещенко - Тьма внешняя
Смерть царила повсюду. Казалось, это был ее самый большой и долгий пир, который обречен теперь длиться целую вечность. И мало кто пережил этот жуткий праздник Старухи с Косой. Праздник, который, должно быть, лишь чудом не унес с собой все живое, и даже самый след всего, что было создано руками мыслящих тварей.
И не скажешь, что здесь когда-то – неполный год назад жили, веселились, горевали, и просто существовали люди. Что стало с ними теперь? Наверное ничего. Точнее, их просто не стало. И если деяния рук человеческих хоть как-то выдавали себя – пусть обломками, руинами или чем-то подобным, то от самих людей не осталось и следа. Вернее, то, что осталось, уже мало походило на род человеческий. Все повторялось. Из раза в раз город сменялся городом, деревня деревней. Вернее – руины руинами. Путники проехали Кельн с возвышающейся почерневшей громадой собора, который не удалось уничтожить ни огнем, ни порохом и где сейчас жило всего несколько сот человек. Матвей, слыхавший, что прежде это был могущественный и богатейший имперский город, качал головой, а Владислав, прежде бывавший здесь, угрюмо отмалчивался, глядя на все это.
Время от времени им попадались еще совсем свежие места боев, с еще не успевшими разложиться трупами. Кто с кем здесь воевал, было непонятно. Говорили разное.
Однажды они наткнулись на изрубленные тела четырех человек, прикончивших друг друга из-за мешка муки – один из них так и умер, вцепившись в ветхую рогожу, так что с трудом удалось разжать мертвые пальцы клинком.
– До чего порой доводит человеческая жадность, – только и вымолвил тогда Владислав.
В каком-то не слишком пострадавшем городке, на грязном постоялом дворе к ним подошли несколько громил, и их вожак нагло осведомился: не продадут ли уважаемые путники им коней, назвав при этом какую-то смехотворно ничтожную сумму. При этом он деловито поглаживал рукоять висевшего на поясе чекана. Владислав в ответ сказал ему несколько слов на странно искаженном немецком [56] , так что Матвей, уже порядком поднаторевший в этом языке, ничего не смог понять. Гнусная ухмылка тут же сошла с лица вожака, и он, угодливо поклонившись, убрался прочь вместе со своей шайкой.
…Путники добрались до Майнца. Город представлял из себя вполне жалкое зрелище, но избежал, как и окрестности, участи многих других. Невредимыми остались и трактиры с постоялыми дворами.
Тут они решили передохнуть (вернее, так решил Владислав).
Выбранный ими кабак явно знавал и лучшие времена. На стене у двери, можно было хорошо различить рубленные следы секир или алебард, на каменном полу – след костра. Но посетители были, и немало; видно и еда кое-какая имелась в округе, и деньги водились у здешних жителей.
Их встретил трактирщик с ухватками висельника, тем не менее довольно вежливо осведомившийся – чего они желают.
– Жрать хочется, – Владислав с наглой миной похлопал себя по животу, – уже брюхо подводит. Так что, стало быть, не зли нас, а быстрее неси, чем вы там травите гостей!
(Вообще, как заметил русин, в землях латинян чем наглее держишься, тем больше тебя уважают, и никакого вежества между простыми людинами и теми, кто выше быть не может).
– А что изволите кушать?
– Всего и побольше! – рявкнул Владислав.
Лях бросил на стол два серебряных гроша. У трактирщика тут же загорелись глаза.
После более-менее сытного ужина, состоявшего из жилистой дикой утки, и овощной похлебки, в которой эта утка варилась (Владислав проворчал, что прежде за эти деньги можно было купить чуть ли не свинью с поросятами), хозяин подвел к ним бедно одетую девушку с изможденным лицом.
– Господа! – высокопарно произнес он, – Не хотите ли всего за полталера отведать прелестей настоящей герцогини?
Несчастная вдруг кинулась на трактирщика, пытаясь выцарапать глаза.
– Негодяй! – кричала она, – Будь мой отец жив, тебя, мерзкого ублюдка посадили бы на кол, заживо сожгли за одно только прикосновение ко мне!!
Потом выкрикнула еще что – то о загубленных братьях и женихе.
Ударом кулака повалив ее на пол, хозяин завернул ей подол, и тут же принялся остервенело насиловать ее, под одобрительные выкрики и подначки собравшихся.
Силезец не успел уследить за компаньоном, лишь схватил воздух, где секунду назад сидел Матвей. Через какое-то мгновение русин опустил свой меч на шею трактирщика.
– Сдохни, падаль! – выкрикнул он, воздев кверху окровавленное острие.
На Матвея бросились сразу человек шесть, и тут бы и окончился его путь, если бы клинок в руке Владислава, описав немыслимую дугу, не снес самому смелому, уже поднимавшему над головой ржавый топор, кисти обеих рук. Остальные, как шакалы, отпрянули прочь, и тут с тылу на тех набросились другие, дотоле жавшиеся к стенах. Должно быть, холуи здешнего хозяина успели нажить себе врагов.
Владиславу пришлось сперва вступить в настоящую схватку с Матвеем, всерьез настроенным продолжить драку, а потом бежать со всех ног из заведения, где вспыхнула настоящая резня всех со всеми. Последним, что поляк видел, покидая ставший таким негостеприимным трактир, был одноглазый верзила, сладострастно кромсающий бердышем опрокинутого на стол противника.
Уже за воротами города Матвей обругал Владислава за то, что тот не дал ему вытащить девушку, а Владислав Матвея – за то что встрял не в свои дела, и вполне возможно – повесил им на хвост дружков трактирщика.
– Забыл, зачем мы идем? – рявкнул он напоследок. Дела поважнее есть, чем девок всяких выручать. К любому городу подойди, да в ров загляни – там таких валяется черте сколько!
Майнц оказался последним, хоть сколь-нибудь пригодным для жизни местом. Дальше они шли не ночуя под крышей, и даже огонь разжигали только днем, чтобы не привлекать внимания. Тем более, что им пару раз встречались следы расправы с теми, кто этим правилом решил пренебречь. День ото дня настроение путников становилось все мрачнее.
На четвертую ночь после Майнца, к месту, где они остановились на ночлег, и только-только закончили приводить в порядок лошадей, вышел человек.
В последних отсветах заката его вполне можно было принять за восставшего из гроба мертвеца. Худой, с туго обтянутым бледной кожей лицом, глубоко ввалившимися глазами, в каких-то невообразимых отрепьях.
Даже тяжелый дух, который бродяга распространял вокруг себя, отдавал разрытой могилой.
В руках он, однако, крепко сжимал арбалет, совсем даже новый, немногим хуже генуэзского, который при его появлении невольно нашарил Владислав. Он не был взведен, но стрела была вставлена в зажим. Именно стрела, а не обычный болт. Длинная, тяжелая, с игольчатым граненым наконечником: кольчугу пройдет как нож масло, а человека без доспехов пронзит насквозь, изорвав в клочья все внутренности.