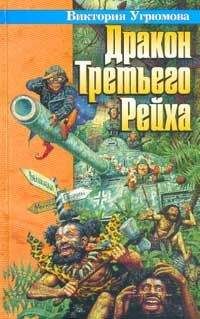Виктория Угрюмова - Белый Паяц
На другом конце Охриды, над широкой степью, тяжело висела огромная круглая луна.
Она освещала бесчисленные шатры, повозки, стреноженных лошадей и тревожно всхрапывающих быков, которых беспокоил запах ночных хищников. Огни костров перемигивались с мерцающими звездами, но их свет терялся в могучем потоке лунного света. Лагерь манга-ди-хайя полностью погрузился в некое странное вещество немыслимого оттенка, в котором смешались призрачное сияние жемчугов, золото солнца и голубизна холодной стали.
Шатер рахагана казался отлитым из серебра.
Окружавшие его стражники не спали. Вероятнее всего, не потому, что боялись нападения, а потому, что яркий свет затекал под веки и мешал уплыть в страну снов.
Хар-Давану было легче: под плотной тканью шатра устроилась на ночлег темнота, и он принадлежал ей без остатка.
Ему снова снились стихи. Стихи о нем самом или о таком, как он. Почему-то во сне все обычно кажется смешнее или печальнее, чем наяву, и обычные слова заставили его заплакать. Он проснулся и сел, удивляясь тому, что еще способен проливать слезы.
За пологом шатра мирно спал лагерь манга-ди-хайя. Его непобедимая армия. Он проведет ее от одного края мира до другого, и завоеванные страны, как переспелые плоды, будут сыпаться в подставленные ладони. А потом, когда в его силах будет исполнить невозможное, он восстановит из праха древний Баласангун и привезет туда Алоху. Он покажет ей спокойную Дивехши, и бурную Айшме, и Хионайские озера. Он бросит к ее раздвоенному рыбьему хвосту все цветы и фонтаны, он заставит птиц петь только для нее, а мотыльков – водить хороводы. Он доберется до небес и спустится под землю, но найдет того, кто распоряжается жизнью и смертью, и заставит его сделать так, чтобы Алоха открыла глаза и увидела все чудеса, которые он для нее добыл.
А потом…
Не важно, что будет потом. Главное – мечта. Человек без мечты и стремления подобен сухому колодцу, пустому кувшину, в котором шуршит и пересыпается горячий песок, и бесплодной земле. Нет смысла в его бытии. Мечта дороже жизни, и он готов платить за нее. Даже так, как ему предсказали в этом странном сегодняшнем сне.
Рахаган обхватил руками колени, задумался и вспомнил каждое слово из этого не то заклинания, не то песни, не то стихотворения.
Вне всякого сомнения, оно написано про него. Или про такого, как он.
Он умирал. Все стало темнотой –
Агонией мучительной и долгой.
И смерть не захотела быть простой:
Пришла по-царски, а не втихомолку.
Что толку, что построены войска,
Когда друзья уже за власть дерутся?
Чужое небо смотрит свысока,
И в этом небе тени мертвых вьются.
Он царь – не бог; солдат, а не поэт,
Но он велик и на краю могилы.
А ведь ему не так уж много лет,
Он изнемог от невозможной силы.
Он созидал империю добра…
Что ж стонет этот мир, залитый кровью?
А он устал.
Окончена игра.
Он проиграл –
И заплатил любовью.
Его пугало это шелестящее ночное предсказание, но отступать было поздно. Да и некуда.
* * *Храм не закрывался всю ночь, но перед рассветом тут не было молящихся. Они явятся позже, когда проводят родных и близких, прольют первые слезы и ринутся за утешением и помощью к Пантократору.
Старый хорарх, похожий на толстого седого ежика, сидел у алтаря, растирая ноющие ноги. В его возрасте трудно бодрствовать всю ночь напролет. Красные от усталости глаза слезились и слипались; тяжелый удушливый сон норовил свалить его прямо на месте, но хорарх мужественно сопротивлялся телесной слабости. Сейчас он должен думать не о себе – о других.
Он понимал их всем сердцем. Когда-то давно, он помнил точно, насколько давно – тридцать семь лет, восемь месяцев и пять дней назад, – они с женой тоже стояли у Фрейзингенских ворот, провожая на войну армию Охриды. И своего единственного сына.
Старик смахнул непрошеную слезу.
Слабое утешение – быть отцом героя, павшего в сражении.
Жена тихо последовала за сыном – без жалоб, стонов и упреков, но хорарх до сих пор кощунственно полагал, что Пантократор поступил с ней несправедливо. И до сих пор выпытывал у него, как же так вышло?
Единственный посетитель вошел в храм беззвучно, как тень. Обнажил голову перед Знаком Пантократора. Поклонился хорарху. Тот узнал его – трудно не узнать рукуйена Риардона Хорна, правую руку великого магистра Монтекассино, человека, которому прочат золотой трон мавайена и великое будущее.
– Доброе утро, сын мой, – произнес хорарх как можно приветливее и, кряхтя, поднялся на ноги. Как он и ожидал, спину скрючило, и разогнуться одним движением он не мог. Данный процесс требовал мастерства и постепенности.
– Доброе утро, падре. – Риардон поспешил ему на помощь. – Я бы хотел заказать заздравный молебен.
– Кто нынче не хочет заказать заздравный молебен, разве что одинокий безумец? Впрочем, прости. Мне нужно знать имя.
– Да, разумеется.
Хорарх вытащил из-за пазухи чистый пергамент (для таких вот, особо важных персон – что поделаешь, и перед Пантократором не все равны; ложь, что это не так), обмакнул перо в чернила (специально припас бутылочку на столике у алтаря, и кучку очинённых перьев – через час тут начнется сущее светопреставление) и приготовился писать.
– Помолитесь, падре, за гармоста Бобадилью Хорна. Пускай хранит его Пантократор и небесное воинство.
Риардон положил на столик тяжело звякнувший кожаный мешочек.
– Я зайду на днях. Вы скажете, если этого недостаточно. Я хочу, чтобы о моем брате молились каждый день, пока будет идти эта война.
– Разумеется, сын мой.
Хорарх не стал говорить молодому рыцарю, что им с женой это нисколько не помогло.
* * *Несмотря на несусветную рань, у Фрейзингенских ворот и вдоль южного тракта стояли толпы людей, кутающихся в предрассветный туман.
Плакать по уходящим на войну – плохая примета. Смеяться и улыбаться не хватало душевных сил, и потому они стояли молча, тихими плавными движениями бросая цветы и зеленые ветви под копыта коней и тяжелые кованые каблуки.
Первым из-под огромной бронзовой арки, символизирующей вечную борьбу Света и Тьмы, выехал Де Геррен. Алый Генерал, прозванный так из-за своих знаменитых доспехов цвета горящей утренней зари. За его плечами топорщились пластинчатые крылья красного цвета; шлем представлял собой уродливую голову морского чудовища, и жесткая пурпурная грива падала из-за ушей на плечи. В правой руке Де Геррен держал пику с голубым флагом Альгаррода.
Его безупречно белый, без единого темного пятнышка или шерстинки, конь под алой попоной прошелся гордой иноходью мимо человека в желтых одеждах, стоявшего одним из первых в живом море людей. Полемарх отдал ему честь, а Хиттинг улыбнулся и бросил на дорогу перед ним пригоршню розовых лепестков.