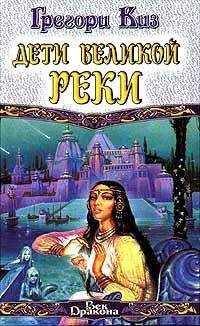Карина Демина - Леди и война. Пепел моего сердца
Хорошо.
Дар закрывает глаза не потому, что страшно — страх давно ушел — но ему надо услышать эту музыку. Никто не верит, что она есть.
Никто не видит алого.
И огненных кошек, которые играют с людьми. Кошки зовут Дара, и он должен пойти за ними. Сегодня или никогда… сегодня.
— Лежать! — Сержант оттаскивает под защиту телеги.
Зачем?
— Сдохнешь по-глупому.
И хорошо бы. Жить по-умному не выходит. Дар пробует вывернуться: кошки ведь рядом. Ему всего-то надо два шага сделать, но не отпускают. Колено Сержанта давит спину, и та вот-вот хрустнет.
Кошки смеются.
— Не дури…
От удара по голове в ушах звенит. И музыка обрывается. Уходят кошки, туда, где конница добивает остатки пехоты, уже безо всякой красоты, деловито, буднично. И над стенами городка поднимается белый флаг.
Не спасет.
Дару не жаль тех, кто прячется за стенами, как и тех, кто стоит перед ними, за чертой осадных башен, штурмовых лестниц и баллист. Все обречены. Каждый по-своему.
На землю из носу льется кровь, но ее слишком мало, чтобы кошки вернулись. Они предпочитают лакать из луж, а не лужиц. Дару нечего им предложить.
Бросают.
Не прощаются до вечера, а именно бросают. Вообще-то Дар ненавидит вечера, особенно такие, по-летнему теплые, с кострами, мошкарой, что слетается к кострам, с черной водой, которая словно зеркало. Но сегодня ненависти нет. Наверное, уже ничего нет.
Жаль, что днем умереть не вышло.
Сержант идет позади. Присматривает. И сопровождает. Сначала туда… потом назад. Док уже расставит склянки, разложит инструмент. Он тоже будет молчать, только губы подожмет, запирая слова. Устал.
Все устали.
А ночь вот хорошая. Звезды. Луна. И дикий шиповник отцветает, сыплет на землю белые лепестки.
— Почему все так? — Дар повернулся к Сержанту.
— Надо же, заговорил-таки. И давно?
Да. Наверное. Дар не помнил, когда осознал, что снова способен разговаривать. Дар вообще не помнил время.
— И чего молчал?
Дар пожал плечами: в словах нет смысла.
Ни в чем, если разобраться, смысла нет.
Дорога. Война. Зимовки. Сержант. Другие. Всех убьют, сейчас или позже, год, два, десять… у войны сотня рук, и в каждой — подарок, все больше железные, вроде тех, которые с неба сыпались. И чего ради бороться, придумывать недостижимые цели? Врать, что однажды доберешься, убьешь того самого, заклятого врага, и все в одночасье переменится…
Следовало быть объективным: у Дара не хватит сил убить Дохерти. А если вдруг хватит, то никому не станет лучше. Напротив, будет красная волна, от границы до границы. Так стоит ли оно того?
Разве что ради кошек.
Но они же бросили.
Старый шатер. Кольцо охраны. Знамя.
Сегодня без зрителей: любое развлечение приедается, а уж то, которое годами длится, так и вовсе не развлечение. Тоска… оказывается, когда ненависть уходит, мир становится безвкусным.
— Ты что задумал? — Сержант почуял неладное.
— Я просто понять хочу, почему все так?
— Как?
— Не знаю.
Плохо…
Мучительно, как будто Дар только что лишился чего-то важного и теперь изнутри распадается. Он видел подобное, когда кости гниют, а мышцы вроде держатся. И человек орет от боли, но даже маковый отвар не способен ее ослабить.
Об этом он думает, принимая удары. Сегодня, как вчера… и завтра. И потом тоже.
Зачем тогда?
До повозки дока Дар добирается сам, и от мака отказывается, а док сует и сует, уговаривает.
Нет, это не док, руки другие, смуглые и с царапинами, вечно она куда-то влезет…
— Выпей, пожалуйста, легче станет.
Нельзя. И не станет.
Он лежит на берегу. У костра. И жарко очень. Сдирает одеяло, пытаясь высвободиться.
— Вода, это только вода, — Меррон помогает напиться. А вода вкусная до безумия. — Тихо, Дар. Я никуда не ухожу. Я здесь. С тобой…
…а там никого не было. Палатка. Или повозка. Запах всегда один и тот же: травяно-химический. Ноющая боль во всем теле. Жажда. И голод.
Регенерация требует энергии. Еды хватает. Но Дар отказывается. Он отворачивается к стене и лежит, пытаясь понять, почему же все именно так, как есть. Приходит док. Потом Сержант. Еще кто-то. Говорят. Уговаривают.
Чего ради?
Постепенно голод отступает. Зато спать хочется почти все время. И Дар спит. Долго… дольше, чем когда бы то ни было. Сны тоже пустые, но в них легче.
Будят. Грубо. Пинком. Плевать.
За шкирку выволакивают из палатки, наверное, все-таки убьют. Хорошо бы. Глаза у Дохерти не рыжие — красные, как уголь, но Дар может смотреть в них, не испытывая больше ни ненависти, ни желания убивать.
— Перегорел, значит. Ну не все ж тебе под волной ходить.
Вот когда в голову лезут, это мерзко. Дохерти не дает себе труд скрывать свое присутствие, напротив, всегда действует грубо, точно подчеркивая этим собственную силу.
— А вот сдохнуть зря решил. Зацепиться не за что?
Перебирает воспоминания, какие-то размытые, словно чужие. В них нет ничего, чего бы Дару было жаль отдать. Отпускает не сразу, но все-таки отпускает.
— Ясно. С людьми ты не ладишь. С лошадью попробуй. Но смори, бросишь — обоих удавлю.
Себя Дару было не жаль, а вот лошадь… он никогда не видел таких красивых, чтобы хрупкая, словно из снега вылепленная. Не поверил даже, что настоящая. Живая. Брала хлеб с руки осторожно, обнюхивала волосы, касалась мягкими губами волос, дышала, согревая собственным теплом.
Вздыхала тихонечко.
И смотрела так, будто знала про Дара то, что никто больше не знает.
Он провел рядом с ней ночь, прижимаясь к горячему боку. И вторую… и уже потом, позже, рассказывал ей обо всем. Не жаловался, просто говорил.
С кем-то надо было.
Не смеялись. И желающих отнять не было. Дар не отдал бы: свое отдавать нельзя.
Снежинка принадлежит ему. И Меррон тоже.
Не отпустит. И не позволит уйти. Это нечестно. Неправильно. Но иначе он просто сдохнет.
— Только попробуй, — Меррон рядом. У нее глаза как вишня. И кожа смуглая, сладкая. — И я не знаю, что с тобой сделаю… у меня, между прочим, планы имеются. А ты тут… собрался.
— Какие? — в горле пересохло, и язык больно задевает нёбо.
— Дар, ты…
Заплакала. Все-таки довел до слез. А что делать, если он не понимает, как правильно обращаться с женщинами? С лошадьми намного проще.
— Ты знаешь, как меня перепугал? Я… я подумала… уже все. Ты сутки целые… и лихорадка… и бредишь. И вообще…
Сутки всего? По собственным ощущениям — гораздо дольше.
— Какие планы?
Он ослабел, но не настолько, чтобы и дальше лежать. Получает сесть и дотянуться до Меррон. Мокрые щеки и ресницы тоже. А пахнет все еще тиной речной. Если ей хочется плакать, то пусть плачет, но рядом.