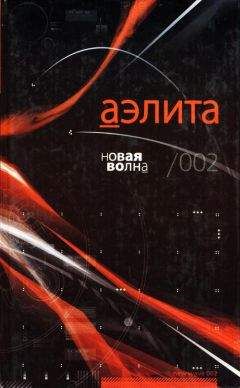Иван Безродный - Аэлита. Новая волна: Фантастические повести и рассказы
И вот — поэт: он на стуле напротив, и, когда я сообщаю, что заберу его жизнь, он поднимает глаза — редкое сочетание робости с уверенностью — и спрашивает:
— Значит, абсолютное счастье — это смерть?
Он, конечно, далеко не Пушкин и отнюдь не Лермонтов; размер в его стихах хромает не на одну долю, ритм вечно норовит сделать шаг вперед, а затем два назад. Такую поэзию не напечатают ни в одном журнале, и он не получит за нее ни копейки; исполнителям популярных песен, может быть, плевать на скачки размера, но разве им нужна подобная муть? — нет, они хотят тексты, навязчивая бессмысленность которых в своей простоте доступна каждому. Самое большее, на что может рассчитывать поэт — стать своим в рок-тусовке, где со временем подсядет на наркотики; в стихах прибавится иллюзорных глубин, в которые он, может быть, поверит и сам. Или — страничка в Интернете и сомнительная популярность в узких кругах; но для начала неплохо хотя бы научиться отличать компьютер от телевизора. О да, из него получится замечательный собеседник (еще бы!) — мне даже не придется ждать, как это бывает с большинством, пока поэт смирится с тем, что… Но он спросил меня, и я отвечаю:
— Нет, неверно. И все же, когда ты выйдешь отсюда через минуту или две, ты будешь мертв. И будешь счастлив.
— Лучше через минуту, — говорит он. — Хотелось бы побыстрее.
— И тебя не пугает смерть? — зачем-то спрашиваю я, будто еще не понял.
И тогда поэт, чуть прищурившись (с легкой издевкой — так ему кажется), выдает:
— А вы не могли бы сделать все молча?
Пустота, думает он. Пустота жизни — вот что страшнее смерти. Пустота, когда вдруг понимаешь: ты устал просто оттого, что существуешь. Пустота, когда не ждешь от жизни ничего, потому что все новое кажется одинаково серым. Пустота, когда то, что нужно тебе, не нужно больше никому — а то, что нужно кому-то, совершенно не нужно тебе.
А я думаю: если у него, поэта — пустота, то что же тогда у всех прочих? И еще: разве есть на Земле хоть один живой человек, который на самом деле знает, что такое пустота?
В бесконечность первый раз: встреча, и… Его мертвое тело выйдет из кабинета, довольное и радостное, как все они. Нет, он не помирится с девушкой в сиреневых очках, но не станет печалиться из-за этого; да и вовсе не будет о ней вспоминать. Зато вскоре он познакомится с другой (нет, не совсем точно: она познакомится с ним, так правильнее), которая найдет в нем свой идеал — плевать на душу, все это глупые выдумки неудачников: идеал в смысле внешних данных, не более. Она — дизайнер интерьеров с именем; поэта она тоже подберет под интерьер, по форме и цвету, и он займет место в ее комнате среди других предметов мебели. Она — независимая женщина, сделавшая карьеру, а он… кто? Никто, в сущности: на работу он так и не устроится и в конце концов оставит эти никчемные попытки… поэт? Разве что в прошлом: сам не живой более, за несколько месяцев он не родит ни одной новой строчки. И все же по-своему она будет любить его. Часто выходя вместе в свет, они не раз услышат о том, как подходят друг другу — конечно же, в этом она будет видеть только свою заслугу. Любительница путешествий, она объездит весь мир: Мексика, Индия, Австралия, Центральная Африка — о Европе можно не говорить, там она посетит каждую страну и почти каждый более-менее известный город. Поэт — искренний глупыш, как наивный подросток всюду последует за ней (так захочет она — и разве он может поступить вопреки своему счастью?), получая массу впечатлений, одной пятой которых достаточно, чтобы воплотиться в шедевр. Его жена будет восхищаться местными красотами, а он — неизменно вторить ей; не раз он ощутит безумный телячий восторг — но ни одна из увиденных красот не откликнется в его душе (душе? полноте, о чем это я?) хоть какой-нибудь махонькой, плохонькой рифмой. Они будут вместе долго… так и хочется добавить: долго и счастливо, и умрут в один день! Последнее вряд ли верно — ведь он умрет здесь и сейчас, — но остальное… да, пусть поэт будет для нее вещью — может, немного более дорогой, чем зеркальный столик или двуспальная кровать в очередных апартаментах («дорогой» — не то слово: кровать определенно обошлась ей в большую сумму), зато он — вещь незаменимая, выбранная единожды и всегда находящаяся на своем месте: всегда под рукой, всегда готовая помочь и, главное, ни на что не жалующаяся — хотя, как и всякая вещь постепенно приходит в негодность, но разве бывает иначе? Кажется, со временем эта бизнес-леди полюбит его по-настоящему — или нет: скорее, просто привыкнет… а такая ли уж большая разница? Ведь они правда будут счастливы, он и она… она, разумеется, не настолько, как он — только куда уж ей понять? Счастье и любовь (любовь?) будут переполнять его, о да, но…
Такое странное маленькое «но»: поэт — юный старик, вообразивший, что уже открыл для себя смысл жизни и смерти, — пришел ко мне не за счастьем. Да, у него проблемы с рифмами и ритмами — пускай: это техника, которую можно развить и отточить, однако — мысли: сейчас они переполняют его безразмерный мозг, ищут выход и рождают вопросы — вопросы, на которые я не обязан отвечать, но которых не могу не слышать.
Я спрашиваю сам: что ты знаешь о пустоте? — но он молчит, а взгляд снова становится виноватым. И тогда я говорю… повышаю голос — и резко выплевываю:
— Пошел вон!
Удивленный, поэт смотрит: ему не понять почему тот, кому в силу положения надлежит завлекать людей, вдруг вот так, вроде бы без явных причин, дает от ворот поворот… Он вспыхивает:
— А если я хочу умереть?!
— Тем более — убирайся, — произношу устало — и тут мы снова встречаемся, а я думаю: лучше бы ты ушел поскорее, пока у меня не закончился приступ проклятой меланхолии… ну, или как это еще назвать? И пока я не решил, что ради новой интересной личности в моем собрании могу стерпеть некоторые вещи.
Но я вижу, как поэт гаснет, глядя — не на меня даже — в меня. И, кажется (почему — кажется? так и есть), именно сейчас он узнает о жизни что-то, чего не мог знать раньше. Что-то по-настоящему новое; ответ на незаданный вопрос.
Потом я беру его за руку, стаскиваю со стула и волоку к двери; нет, он не сопротивляется — он просто обвис, как мешок тряпья; как бездыханный труп, которым чуть было не стал. Я открываю дверь и выталкиваю его, и поэт едва не падает на грязный линолеум; успевает опереться на безжизненно-серую стену; встает, поднимает глаза…
И я захлопываю дверь.
Вспоминаю — ну, вы знаете, это же классика: «тот, кто вечно хочет зла и вечно совершает благо». Теперь пойти бы вниз, в подвал… взять первый попавшийся сосуд, не важно какой… и шандарахнуть со всей мочи о стену. Взять стерву, еще кричащую, что я, этакая сволочь, не имею никакого права держать ее здесь… приподнять немножко, ощутить в руках вес… подойти к идиоту, который провалился в сон и не ожидает никакого подвоха — и залепить с размаху! Осколки разлетятся по всему полу, и какая-нибудь задремавшая крыса с перепугу рванет к норе; истоптать в порошок (крысу — тоже, если попадется под ногу), потом прихватить крутого с его непрекращающимися расспросами — и размолотить о не успевшую ничего понять трусиху. Топтать, топтать и топтать!.. Потом взять еще кого-нибудь — как же их много, этих идиотов и стерв, этих дур и подонков, этих гадов и мегер, этих сучек и козлов! Бить, давить — и наслаждаться многократно отдающимся в ушах звоном (тоже часть антуража)…