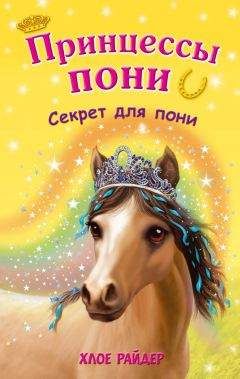Екатерина Казакова - Пленники Раздора (СИ)
— Пришла-таки? — не удивился целитель.
— Пришла, — ответила девушка, не решаясь без позволения идти дальше.
— Ну, ступай, чего застыла? Только спит он.
Клёна кивнула и неслышно скользнула к лавке, которую не было видно из-за крутобокой печи.
Фебр и впрямь спал. Эти две седмицы сильно изменили его. Восковой бледности не осталось и следа, исчез лубок с правой руки, не было и повязок, а страшные раны затянулись тонкой глянцевито блестящей розовой кожицей. Коснуться боязно — вдруг снова раскроются? А какой он был худой! Кости одни. Ребра выпирают, плечи острые, ключицы торчат…
Скамейка, на которой девушка провела столько бессонных ночей, как прежде стояла у окна. Клёна присела. Она не слышала, как ушёл Ихтор, и не знала, сколько оборотов миновало после этого. Заглянул ненадолго Руста. Ничего не сказал, взял два мешочка сушеницы, чем-то погремел и покинул лекарскую. Снова воцарилась тишина. Солнце — горячее, будто летнее, лилось в раскрытое окно. Ветер доносил крики выучей с ратного двора, вороний грай, шум леса… И день тянулся, тянулся — восхитительно долгий. Фебр спал.
— Птаха…
Клёна вскинулась. Видимо, успокоенная его ровным дыханием она задремала и проспала довольно долго, потому что солнце уже перевалило за полдень.
Ратоборец смотрел на девушку и улыбался.
— Борода у тебя, — покачала головой Клёна, — косы плести можно.
Он улыбнулся ещё шире и приподнялся на локте. Видно было — уже довольно для того окреп.
— Мне снилось, ты меня поила какой-то настойкой, — сказал Фебр. — Горькой.
Девушка подсела к нему:
— Поила.
Он снова опустился на сенник и теперь глядел на собеседницу снизу вверх:
— Спасибо, — поблагодарил ратоборец и добавил, взглядом показывая на свои укрытые покрывалом ноги: — Поняла теперь, как оно с нами бывает…
Клёне на миг стало и грустно, и смешно оттого, что он решил, будто она ухаживала за ним из сострадания и благодарности. Благодарности за то, что в своё время спас, а потом ещё и вразумил, не дав стать возлюбленной воя, чем избавил от печальной будущности быть женой изувеченного, ни на что не годного мужика.
И она спросила упрямо:
— Как?
Фебр улыбнулся, полагая, что собеседница его не поняла:
— Вот так. Как со мной случилось. Ты не ходи сюда, не надо.
Весь гнев, накопившийся в душе за последние месяцы, разом вскипел в Клёне.
— Опять гонишь? — спросила она, смиряя острую горечь обиды. На себя. На него. На жизнь. На Ходящих.
— Жалею, — пояснил обережник.
— А чего меня жалеть? — холодно удивилась девушка. — Меня жалеть нечего — очи видят, уши слышат, руки-ноги целы.
Вышло слишком резко. Но он не обиделся. Только снова улыбнулся. А в ней зашлось сердце — столько горечи было в его улыбке!
— Вот и меня нечего, — сказал, наконец.
— А я и не жалею, — отозвалась Клёна. — Жалела бы — сидела в углу да плакала.
Ей было больно. По-настоящему больно оттого, что он всё никак не хотел ей верить, всё пытался разглядеть в её поступках упрямство вбившей себе в голову блажь избалованной девки.
— Ты изменилась, птаха, — тихо произнёс Фебр.
— Повзрослела, — поправила его она и добавила твёрдо, чтобы не мог оспорить: — Завтра снова приду. Я за минувший месяц всякого тебя видела — и больного, и чуть живого, и умирающего, поэтому в жилу пошедшим меня не испугать.
Он смотрел на неё потрясенно. Эта отповедь была резкой и честной. Обережник не нашелся, что сказать.
Клёна пришла на следующий день. Не с утра, едва проснувшись, а сходив на урок и после него затвердив то, что наказали.
— Я тебе одежду принесла, — она положила на скамью чёрную рубаху.
Рубаху дала Нурлиса, причём — хвала едкой старухе! — выбрала такую, чтобы не была сильно велика отощавшему за месяцы плена и болезни парню.
Фебр с тоской посмотрел на черное облачение ратоборца. Ему такое вздеть — курам на смех. Но он ничего не сказал. Да и что тут говорить?
* * *Тамир наслаждался весной. Давно, уже очень давно ему не было так хорошо и спокойно. Одиночество и сомнения, без устали терзавшие его все последние годы, отступили — их вытеснил собой бушующий зеленник.
Воздух казался дурманным и пьяным, голова кружилась, и перед глазами проносились не то видения, не то воспоминания. Колдун не задумывался. Он жил между двойной явью и одновременно с этим будто бы видел два разных сна.
В одном он был человеком — сыном, мужем, отцом, дедом, обережником… В другом — скитальцем, запутавшемся во множестве дорог, безнадежно ищущим путь к дому, к людям, которых покинул. Он не помнил их имен и лиц, не помнил, зачем ему непременно надо их отыскать. Знал лишь одно — искать нужно… Впрочем, и торопиться с этим уже ни к чему.
А явь его путалась, заставляя постоянно теряться в догадках — то, что так часто напоминает о себе, было ли с ним на самом деле? Мерещилось ли? Застенчивая девушка с короткими волосами, закрученными в легкие тонкие кудряшки — она улыбалась и пела. Он помнил, как она склонялась над старыми свитками и тень от длинных ресниц падала на нежные щеки. От этих воспоминаний теплело на душе… Кто она была? И где она теперь? С кем?
Не помнил. Но был счастлив.
Иногда всплывала перед глазами другая — с тяжелой русой косой и синими лучистыми глазами, с кожей сливочно-белой и красивыми мягкими руками. Лицо было знакомым. Но всё одно — Тамир не помнил имени. Да и казалось отчего-то — не нужно помнить. Незачем. И он снова не ворошил минувшее.
По ночам, во снах к нему приходила женщина — темноглазая, с волосами, тронутыми сединой. Что-то ласково шептала, касаясь головы. Гладила сухой ладонью от бровей к волосам, а он лежал, вытянувшись на лавке, положив тяжелую голову ей на колени. Закрывал глаза. Сердце трепетало. Пахло хлебом и домом, подошедшей опарой и печным дымом…
Тамир знал: если захочет, то, наверное, вспомнит, что связывало его со всеми этими женщинами. Но он не хотел. Он просто был счастлив.
Случалось, ему являлась девочка. У неё были светлые кучерявые волосы, разбитые коленки и исцарапанные руки. Она что-то говорила, и, хотя он не мог разобрать слов, тихая радость проливалась в сердце. Он играл с ребенком. Она забиралась к нему на колени, дергала за волосы, смеялась. Он её щекотал. И просыпался счастливее, чем засыпал.
Бывали мгновения, когда на него находила неведомая блажь, хотелось вдруг вспомнить то, что было после. Не вся же его жизнь состояла из радости? Что стало со всеми теми людьми, которые приходили к нему во снах? Ивор мешал. Повисала перед глазами чёрная завеса, будто каменная стена, которую ничем не прошибить. За этой стеной надежно пряталась память, и ворошить её Тамиру было нельзя. Или не хотелось. Да, вероятно, не только Тамиру, но и Ивору.