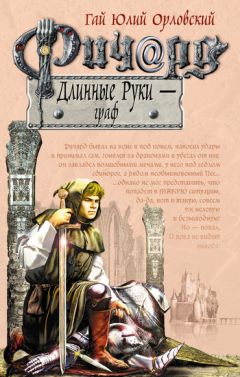Гай Орловский - Ричард Длинные Руки — граф
Из-за его спины вышел Родриго, глаза сверкают обожанием, вот это я люблю, но он тоже сказал просительно:
— Дик, если ты можешь, спаси его!
Я покачал головой, злость не уходит, и хотя жизнь и окружение вовсю провоцируют на проявление человечности, но я ей не поддамся!
С лавки раздался кашель, тяжелый хрип:
— Не умоляйте этого ублюдка… Я лучше умру… чем приму от него…
Он кашлял все сильнее, изо рта хлынула кровь, залила подбородок и побежала по груди. Ярко-алая кровь, артериальная, щас эта сволочь откинет копыта. Агония, вспомнил я, это не переход от жизни к смерти, а последняя попытка вернуться обратно. А вот хрен тебе, сдыхай, сволочь…
Я, борясь с собой, протянул руку, кончики пальцев коснулись его плеча. Прежде чем я сказал себе, что излечу только наполовину, чтобы не подох, но чтоб раны еще оставались, ледяной холод пронесся сквозь мое тело, на миг опахнул ледяной стужей даже мозг. Горячая кровь, правда, стала поступать тут же снова, но я понял, что вытащил начальника стражи с того света.
Винченц все еще лежал, распластавшись, как дохлая рыбина, я сказал злым голосом:
— Я вытащил тебя только затем, чтобы убить самому!
Он слабо пошевелился, сжал и разжал кулаки, рывком сел. В лице и глазах полная ясность, не стал даже проверять, что там под повязками, уже понял по Раймону. Поднял взгляд на меня, пересохшие и полопавшиеся губы шевельнулись, он проговорил с трудом:
— Я признаю ваше командование, сэр… до тех пор, пока будете в нем нуждаться. А когда изволите, я обещаю повернуться с оружием в руках к вам лицом к лицу.
Я холодно кивнул:
— Принимаю. Итак, дверь никому не открывать. Вот вам веревка, а мыло уж сами ищите.
Раймон спросил непонимающе:
— Это зачем же… Вешаться, что ли?
— Нет, — огрызнулся я. — Намылитесь и — в альпинисты!
Раймон наконец врубился, подбежал к окну и попытался сквозь прутья посмотреть вниз. По земле бегут лунные полосы света, рваные тучи то открывают луну так, что хоть иголки собирай, то наступает тьма опричная, кромешная, не рассмотришь и кончик своего носа, а уши так и вовсе не видать в такой темноте.
Винченц пробормотал:
— Все сделаем, сэр. Постараемся выбраться из окна, когда луна зайдет за тучу.
Раймон спросил ошалело:
— Но разве внизу их нет?
Я поморщился, Винченц усмехнулся такой наивности, а Раймон посмотрел на гору трупов, вздрогнул, уже расширенными глазами уставился на меня.
— Неважно, — пояснил я, — есть они или нет их… сейчас.
И опять понял только Винченц.
Лунный свет падает из широкого застекленного окна на лестницу и освещает внизу пол из серых каменных глыб. Веселье затихает, грабить уже нельзя, Лангедок все подмял под себя, служанок изнасиловали не по одному разу, острота новизны потерялась, мужскую часть местной челяди почти всю перебили, а своя челядь умеет огрызаться, ее не тронь, у нее свои права. Да и, если уж честно, то все здесь, за исключением рыцарей, такая же челядь, только с оружием в руках.
Я потихоньку выбирался наружу. После той неудачи, когда погибли все пятеро удальцов, спьяну обещавших принести головы защитников и получить награду, внизу затихло, а часовые так же бросают кости, кто-то дремлет, склонившись на копье, и вздрагивает, когда руки начинают скользить по древку.
Четырехугольные опоры, мимо которых я проходил, не замечая, теперь прячут меня от нежелательных взглядов. Я перебегал от одной к другой, хватался за тщательно отшлифованные грани, выглядывал, как суслик из норки. Зал освещен едва-едва, на стенах не светильники, а какие-то светящиеся мотыльки, потому я вздрогнул и дернулся, будто меня ткнули шилом: впереди, как победный боевой клич, с потолка ударило по глазам ярко-красным будоражащее полотнище с нарисованными драконами и леопардами, гербами Лангедоков.
Холл заполнен запахами и ароматами, я пробирался на цыпочках, прислушивался к каждому шороху, внюхивался в запахи, всматривался в любую тень и до отказа задействовал то чувство страха или осторожности, которое Гельмольд назвал прекогнией.
Далеко впереди среди этого серого мира свисают сразу два красных полотнища, на них те же гербы, полоса света ложится с той стороны. Я начал затаиваться чаще, всматривался до рези в глазах, а от усилий анализировать запахи и строить картины затрещала голова. Ах да, это же украсили так выход из замка… Вообще-то красиво, должен признать, что женский вкус не всегда лучше.
Послышался металлический лязг, тяжелые шаги. Из темноты вышли двое закованных в добротные доспехи воинов, оба с короткими копьями, мечи на поясах, щиты за спинами. Не глядя по сторонам, прошли вдоль ворот, одновременно патрулируя и ворота, и вообще холл.
— А ты видел, — донесся до меня голос, — какого удава Цюрка зарубил? Настоящий дракон! Только что без крыльев!
— Удав что, — ответил второй, — когда Цюрка с Воломордом кошек били, одна из них обернулась бабой, представляешь?..
— Ух ты!.. И как вы ее?
— Да как и остальных! Только потом все равно зарезали.
— Правильно. Бабы сами по себе — подлые твари, но хоть приятные, а кошки так вообще… Еще и опасные.
— Как думаешь, мы здесь надолго?..
Оба отдалились, но я еще услышал короткий смешок и затихающий голос:
— Шутишь?.. Теперь уж точно нам штурмовать крепость Валленштейна…
— Ну да, для того оттуда и перебежал этот, как его…
— Кастелян.
— Да, кастелян…
Значит, мелькнуло у меня, кошек перебили. Ну хоть что-то сделали доброго, а то хоть и не люблю этих подлых тварей, но все-таки убивать рука не поднимется. А что удава убили — жаль. Хоть этот гад всякий раз ухитрялся подползать мне тайком под ноги, чтобы я наступил, наверное, надеялся, что заору, ему на радость и глумление, шуточки у него такие идиотские, но все-таки жаль: чистый, опрятный, нигде не гадит, шерсть не роняет, как те мяукающие твари…
Когда оба стража ушли к дальней стене, я подбежал к двери, прислушался и одновременно всмотрелся термозрением сквозь толстые деревянные створки. Два багровых силуэта прошли далеко по ту сторону, я рискнул приоткрыть одну створку, свежий воздух ударил с силой молота, я согнулся, чтобы не закашляться, торопливо заглушил сверхчувствительность и выскользнул в ночь, не забыв так же аккуратно придвинуть тяжелую створку на место. Петли смазаны, ворота новенькие, не скрипнули, я изо всех сил задействовал исчезничество, скользнул вдоль стены, прижимаясь к ней так, что обдирал спину и бока разом.
Далеко в ночи деликатно выводят трели соловьи, единственные из дневных птиц, а так в лунном свете то и дело проносятся то растопыренные летучие мыши с красными глазами и множеством отвратительно белых зубов, то неправдоподобно толстые дракончики, каким-то образом приспособившиеся и к луне, как, впрочем, соловьи или майские жуки.