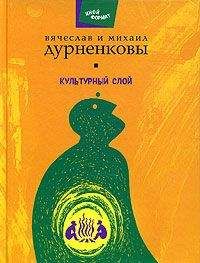Ксения Медведевич - Сторож брату своему
— Х-хочу, — пробормотала девушка, завороженно глядя на джинна. — Откуда ты знаешь мое прежнее имя?
— Оно не прежнее, — мурлыкнул кот. — Оно настоящее. Тебя зовут Омид. Знаешь, почему?..
Ее трясло от страха и холода. Какая разница, почему?.. Бабка в детстве что-то бормотала — мол, имя несчастливое, так шахиню звали, что с младенцем с Башни Наместника прыгнула, когда город ашшариты взяли. Но где гордая царевна, что предпочла смерть поруганию, и где проданная за долги девчонка, которой ашшариты то и дело раздвигают ноги…
— Хозяева назвали меня Шади, — облизнув губы, проговорила она. — И я очень хочу жить. Чего ты захочешь взамен, о дитя огня?
Кот довольно хмыкнул и ответил:
— Услугу, конечно.
— Никогда не ложилась с джинном, — пробормотала девушка.
— Дура! — мявкнул кот. — Нужен мне твой фардж!
Шади сжалась, чувствуя, как болит между ног.
— О другой услуге речь, — смягчаясь, сказал джинн.
Снаружи послышались тяжелые шаги и переговаривающиеся голоса.
— Я согласна! — пискнула девушка.
— На что?
— На всё!
— Дура, — мягко пристыдил ее кот. — Впрочем, теперь уже поздно. На всё так на всё.
Снаружи завозились с засовом, громко обсуждая, дозволено ли правоверным изливаться в рот женщины — Амр ворчал, что мулла в Пятничной мечети на прошлой проповеди порицал тех, кто увлекается игрою на флейте, вместо того, чтобы пахать женщину ради ростков потомства, а Бехзад доказывал, что ашшаритка — одно, а неверная, которую берут ради наслаждения, — совсем другое, в нее можно по-всякому изливаться, ибо сказано в хадисе, что женщины кафиров дозволены правоверным по праву добычи, а раз дозволены, то дозволены во всех местах, ведь иначе так и было бы сказано — дозволены вам по праву добычи их фарджи…
Шади задрожала еще сильнее и до крови закусила губу.
Кот непонятно сказал:
— Никак ты, Омид, не поумнеешь… Все-то тебя в крайности тянет — то ни на что не согласна, то вдруг согласна на всё…
Засов со скрежетом отъехал в сторону, и дверь растворилась.
— Вылезай, шлюшка! — засмеялся Бехзад, засовывая голову внутрь.
И тут же отскочил назад, дико заорав:
— Джинны! Спасите-помогите!!!
Дружок его увидел то же самое — разъяренного кота в ореоле зеленого страшного света! — и с такими же воплями припустил прочь. Через несколько мгновений крик оборвался и послышался шум падающей земли и глухой звук удара.
Бехзад, разинув рот, продолжал пятиться назад. Запнулся о могильный холмик, упал и замахал руками:
— Изыди!
— Куда уж… — усмехнулся Имруулькайс. — Плохой из тебя изгонятель джиннов. Да и богослов хреновый.
Вырастая на глазах, огромный черный кот подошел к человеку, наклонился, заметил в перекошенное лицо:
— А нечего темными делишками ночью на кладбище заниматься!
И с радостным урчанием вцепился в горло.
Айяр забил ладонями по земле, почему-то не пытаясь оторвать от себя рычащего джинна. Тот долго, с чавканьем и сопением, рвал Бехзаду шею, мотаясь вместе с дергающимся в агонии телом.
Когда ноги айяра прекратили скрестись по земле, кот оторвал окровавленную морду от горла мертвеца и приказал девушке:
— Снимай с него одежду и одевайся.
Дрожа, Шади обхватила себя за плечи и простучала зубами:
— С-с н-него?
— С него, с него, — кивнул кот и облизнулся. — Потому что навряд ли ты захочешь лезть в яму, чтобы снять одежду с Амра.
— Аааа?
— Бедуин сломал шею, Омид. Слыхала поговорку: не рой другому яму, сам в нее попадешь?
— Аааа?
— Одевайся, одевайся. Не пойдешь же ты голой на встречу с караванщиком?
— Аааа…
— Отправишься с караваном в Мадинат-аль-Заура. В пути о тебе позаботятся. В столице придешь к воротам Младшего дворца. Тебя заметят. Продашься в кухонные рабыни. Мои родичи позаботятся, чтобы тебя купил нужный человек.
— Аааа…
— А вот что делать дальше, мы тебе скажем, о Омид, согласившаяся на всё.
тот же вечер,
аль-каср Харата
Мараджил стояла и зябко куталась в пашмину: по двору перед воротами гулял ветер — он всегда крепчал ближе к закату. Она стояла на галерее второго этажа — а чем выше, тем порывы сильнее.
Кони айяров месили влажную грязь — невольники не успевали выметать землю с каменных плит, а с неба моросило. Сначала цитадель покинул отряд ее сына — халифа, поправила себя Мараджил, халифа, — теперь вот готовились к отбытию два десятка ушрусанцев. Лужи и мокрая земля блестели в свете факелов, ветер сбивал пламя, оно ложилось набок, окрашивая алым наконечники копий и налобники коней.
Садун стоял у стремени мула и дрожал, не скрываясь. Впрочем, он дрожал с тех пор, как проводил своего мальчишку, Фархада. Тот ничего не заподозрил — даже понурый вид и заплаканные глаза сабейца не изменили его радостного расположения духа. Юноша пересмеивался с девчонкой и так и пожирал глазами ее покачивающиеся бедра. Видно, в голове у него — как и у всякого четырнадцатилетки — были только мысли о фарджах и о том, сколько раз получится вонзить, когда в карван-сарае он заведет невольницу за занавеску. Фархад весь светился от радости и предвкушения — женщины, встречи с семьей, вида красот, открывающихся путнику по дороге.
Садун жалостно запахнулся в свою желтую накидку и вытер текущий нос. Мараджил брезгливо поморщилась — что-то старик совсем сдал, разве можно так переживать из-за какого-то невольника, пусть и смышленого…
Ее молодцы, тем временем, не спешили влезать в седла и орали, толкались, болтали, хвастались покупками — всем выдали жалованье, многие сторговали на базаре новые папахи и рукояти к джамбиям.
За общим гвалтом и сутолокой они не заметили, как приоткрылась створка двери, и во двор вышел Лубб. Быстро огляделся и кивнул кому-то у себя за спиной. Показался гвардеец в усаженной золотыми бляхами перевязи. За ним еще один. А следом вышел кто-то высокий, с ног до головы закутанный в дорожный бурнус. Еще двое нишапурцев опасливо высунулись следом.
Садун дернулся и обернулся.
Ударил порыв ветра, капюшон бурнуса сбило с головы высокого человека, который оказался, конечно, совсем не человеком, а нерегилем.
Лубб как ни в чем не бывало показал Тарику на здоровенного гнедого, которого держал в поводу гулямчонок, — полезай, мол, в седло.
Мальчишка увидел, для кого конь, и визгнул от страха.
На крик обернулись, айяры увидели бледное сумеречное лицо. На дворе стало тихо, только кони топали, и сбруя звенела.
И вдруг кто-то крикнул по-ушрусански:
— Гля, кошка лысая!