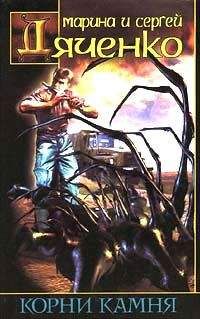Марина Дяченко - Ведьмин век
Потом он выключил рацию. Расстегнул пиджак и вытащил из внутреннего кармана плоскую неприметную коробочку с узким серым оконцем. Две черных кнопки — преднабор координат. Большая красная — команда на пульт…
Интересно, а знают ли ведьмы о существовании ракетных шахт. Он, Клавдий, воспитан в твердом убеждении, что ракетные шахты останутся единственным оплотом цивилизации, даже если все прочее провалится в мировой океан. Или сгорит под метеоритной атакой…
Клавдий поднес коробочку к глазам. В самом уголке экрана пульсировал перечеркнутый квадрат; это означало, что пульт существует и готов принять команду. Любую команду, как объяснял герцог, поскольку машина войны не рассуждает по определению…
Клавдий содрогнулся. Ему было неприятно держать ЭТО в руках, но тяжесть коробочки во внутреннем кармане придавала ему если не уверенности, то, во всяком случае, куража. Так ребенок, творящий безобразия, деловито прикидывает, мол, станут наказывать — наглотаюсь таблеток…
Он вздохнул. Снял со стены серебряный кинжал, положил на стол рядом с темной коробочкой. Оперся ладонями о столешницу, долго сидел, глядя перед собой.
Он вспомнил лицо герцога, передающего «кнопку» из рук в руки. Передернул плечами; вообразил себе круглую физиономию Фомы из Альтицы, когда тот получает известие об аресте и казни «мутантной деструктивной ведьмы, так называемой ведьмы-матки»…
Как ты могла, укоризненно сказал он судьбе.
Конец кошмара. Отступившее море Одницы, зазеленевшие виноградники Эгре… Отстроенный оперный театр. Конец кошмара, открыл глаза — и нету ничего, уходящий скверный сон… Оживающая Вижна. Вижна, а ведь он только теперь понял, как он любит ее, проклятую и загаженную, похожую на оскверненное кладбище… Он все самое важное понимает слишком поздно…
Как он мог проморгать?!
Он чует ее сквозь много этажей. Сквозь бетон. Он чует ее, сидящую глубоко в подвале. И его знобит.
Неужели все так просто?! Неужели там, в каменной щели, действительно сидит оглушенная инициацией матка?..
Он помедлил еще. Взял со стола свое оружие. Поднялся и медленно направился в подвал…
И вот теперь он сидел в углу камеры сто семь, сидел, привалившись спиной к холодной стене, и смотрел на ту, в ком одновременно воплотились «нерожденная мать» и девочка Дюнка.
* * *— Мне очень трудно будет рассказать то, что я расскажу.
Ивгины губы дрогнули. Она медленно кивнула.
Он прикрыл ладонью глаза — мешал воспаленный свет факела; он опустил веки и медленно, ровно, устало заговорил.
— Ее звали Дюнка… Дюнка, Докия, Дюнка, и она совсем не была на тебя похожа… И она умирала дважды. Второй раз — по моей вине и у меня на глазах…
Его голос не дрогнул ни разу, хоть он за этим специально и не следил. Его бесстрастная маска за долгие годы так приросла к лицу, что не нуждалась уже ни в каких поддерживающих веревочках; он говорил бестрепетно, как машина — и только где-то ближе к концу повествования внезапная и острая сердечная боль заставила его прерваться. Ненадолго. На минуту.
По мере его рассказа Ивгины глаза делались все шире и шире, пока не заняли, казалось, все лицо. В черных зрачках дважды отражался факел.
— Видишь, Ивга… видишь, какой я романтический герой. Преданный… хранящий верность единственной подруге… в объятиях очередной любовницы, — он усмехнулся. — Всю жизнь ругал себя за слепоту… рядом же была, живая, веселая, рядом же, руку протяни… не видел. Занимался… собой, пес знает чем занимался, не видел, чтобы всю жизнь потом… И вот, не увидел снова. Глядел в упор — и не увидел… Прости. Ты слишком хорошо… обо мне думала. А я… старый дурак.
Он вытащил кинжал. Серебряное изогнутое лезвие, мгновенная и гарантированная смерть, прекрасная участь для любой ведьмы. Славный уход…
Ивга моргнула. Она давно знала, что он собирается сделать — но только теперь на дне ее глаз шевельнулся страх.
— Я хочу… касаться тебя. Много дней и ночей… держать тебя за руку. Чтобы ты ничего не боялась. Я так хочу никогда тебя не терять…
Серебряное лезвие оставалось холодным. Оно никогда не примет частички человеческого тепла. Никогда.
— Если бы ты знала, как я этого хочу, Ивга. Никогда не выпускать твоих пальцев. Никогда не разжимать…
Теперь он стоял в полуметре от нее — на коленях. Их глаза были на одном уровне; руку с кинжалом он увел за спину, тело само прекрасно знает, как наносить удар. Тело справится без его помощи, и не стоит медлить, следует только отдать Великому Инквизитору его право, сбросить запрет на убийство, и без того уже нарушенный многократно…
Он протянул левую, свободную руку.
…Старый зоосад, лисенок, решетка, несколько вечных сантиметров, отделяющих детскую ладонь от свалявшейся рыжей шерсти…
Это другое. Совсем другое, нет…
Он протянул руку между прутьев собственной силовой решетки, протянул к ладони, омертвевшей в тисках колодки, к безвольной, тонкой, белой руке…
Рука потянулась к нему навстречу, потянулась изо всех сил, не жалея кожи на заключенном в колодку запястье.
Прикосновение.
Вода и белые гуси. Нагая девушка на зеленом берегу; солнце и рыжие волосы. Удар невидимого тока, обморочное расслабление, тепло и дрожь.
Все объятия мира. Поцелуи и страстные ночи, весь этот ворох, ворох смятых простыней…
Все это ничего не стоит.
Два факела, дрожащие в черных зрачках.
— Клав…
— Я здесь.
— Клав… я…
И тогда он увидел, как внезапно меняется ее лицо. И неожиданной силой наливается ослабевшая рука.
— Я не хотела!.. Я тебя…
Кинжал, вывалившийся из его руки, все еще падал, все еще висел в воздухе в сантиметре от каменного пола — а он успел поймать ее закатывающиеся глаза и измерить «колодец».
Не колодец.
Там вообще больше нет колодца. Черная дыра. Прокол в пространстве.
Он потерял сознание мгновенно. И в этом, по-видимому, заключалось некое изощренное счастье: он так и не успел понять, что Ивга завершила, наконец, свой долгий путь по спине ухмыляющейся желтой змеи.
Глава двенадцатая
…Праздник.
Всепоглощающий праздник; иголки-огни, стекающиеся ей навстречу, тысяча ее глаз, ночь с глазами, небо с глазами, ее свобода, напряженная и хищная, будто тетива.
Поступь. Шаги, от которых вздрагивает земля; красное, темно-красное, огненно-кровавое, шаги, шаги, они идут сюда, и они все — ее…
Прорыв белой ткани. Нежность; детские руки, тянущиеся к ней сквозь черные лохмотья ночи. Нежность, но без боли, потому что они ее навек, вздрагивает земля, медленный танец, тяжелый танец на барабане, в который превратилось небо, величественный марш, они все идут сюда, летят и ползут, они соберутся вместе и наконец-то обретут цель, они станут ею, вот ближе, ближе…