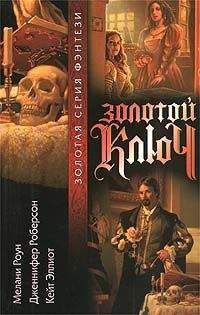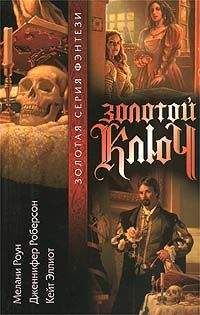Дженнифер Робертсон - Золотой ключ. Том 1
Игнаддио надолго уставился в пол, наконец поднял глаза.
— Он Верховный иллюстратор, — сказал мальчик. — Я тоже мечтаю стать Верховным иллюстратором. Но если ты сказала правду…
«Если я сказала правду, то навсегда отравила твою мечту. И что с того, что виновата не должность, а человек?»
— Я тогда разозлилась, — объяснила она, и это была правда. — Никогда в жизни еще так не злилась. И не собираюсь оправдываться. Ты ведь и сам знаешь: в гневе часто говоришь то, чего не следует.
Он обдумал ее слова.
— Так ты не всерьез?
— Я сказала, чего не следовало.
Игнаддио хотел еще о чем-то спросить, но передумал. Должно быть, понял, что исчерпывающего ответа не получит. Он кивнул Сааведре на прощание и ушел из молельни — терзаться сомнениями и подозрениями.
— Бедный Надди, — шептала Сааведра. — Все наши прекрасные идеи нынче разбились вдребезги. Один иллюстратор наложил на себя руки, другой повинен в том, что довел его до самоубийства. Но я тут ничем помочь не могу. В нашем мире нет справедливости.
Ни для мальчика, у которого рушится мечта, ни для женщины, утратившей невинность.
— Я хочу, чтобы она вернулась, — просила она, глядя на икону. — Я хочу, чтобы моя невинность вернулась.
Не вернется. Слишком уж часто Сааведра ее теряла. В первый раз это было в чулане над кречеттой, когда она увидела Чиеву до'Сангва. Второй — когда сожгла Пейнтраддо Томаса.
"Все ради Сарио”.
Не только. Еще и ради себя, ради того, что крылось в самой глубине ее существа. Ради страстной мечты о Даре, который возвышает художника над остальными смертными. Который делает его непохожим на других.
Теперь Сааведра знала, что у нее есть Дар. Сарио это доказал. Она встала и сделала четыре шага к столу. Преклонила колени, опустила голову.
— Прости меня, — взывала она к Матери. — Прости!
* * *Он писал цепь, кропотливо выводил каждое звено. Во всем присутствовала оскурра, крошечные, четкие, точно подобранные таа'абские письмена. Звено за звеном, буква за буквой, слово за словом. Цепь пересекала выпуклости грудей, солнечное сплетение, доставала до талии. Над ладонью, что защищала и ласкала живот, появился Ключ — точная копия Чиевы Сарио.
И тут Сарио замер. Вскрикнул. Вырвался из транса Аль-Фансихирро, из чар столь мощных, что заставили позабыть обо всем на свете, кроме творения. Пальцы разжались, кисть упала на мраморную палитру. Он попятился, зашатался, прижал к глазам липкие, пахнущие краской ладони. Только громкое, прерывистое дыхание нарушало тишину ателиерро.
«Пресвятая Матерь, великий Акуюб…»
Он иссяк. Исчерпался. Всего себя перелил в то, чем могла быть она. Растратил талант Грихальвы, тза'аба — всего себя. Особенного. Не похожего на других.
Ничего не осталось…
Словно в подтверждение этой догадки затряслись руки, по телу пошли судороги, до хруста сжались челюсти. Его мутило, в глазах померк свет; почему-то он решил, что на полу будет легче. Опустился на колени, услышал, как звякнула его цепь. Взялся за Ключ, ощутил в ладони его форму, тяжесть, твердость.
Накатил страх. Неужели он принес себя в жертву?
Он поднялся на ноги, шатаясь, приблизился к картине, увидел нарисованный Ключ и цепь. Точно такие же, как у него. Разница лишь в том, что на его шее — настоящее золото, звенья созданы руками человека, а не лингвой оскуррой.
Полегчало. Он повернулся кругом, подошел, бормоча молитву двум божествам, к стене, прислонился. Столько сделано за такой короткий срок! Но работа еще не закончена.
Он сполз по стене, ободрав ладонь о штукатурку и услышав треск зацепившейся ткани. И почувствовал запахи крови, мочи, спермы и пота.
«Осталось одно…»
Он содрогнулся.
Пахло краской, растворителем, олифой, воском; еще были пряные ароматы растений и сладкий — горящих свечей. Неровное биение сердца под сведенной судорогой плотью. И затрудненное дыхание, как у больного чумой.
Дрожащие руки превратили вьющиеся волосы в спутанные космы. Спускаясь по исхудалому лицу, ладони оцарапались о жесткую щетину на подбородке. Он вновь нащупал Чиеву и стиснул, спрятал в ладонях, сцепил на ней пальцы.
"Подожди. Подожди”.
Еще можно отступить. Еще можно все исправить.
Подожди!
Нет. Слишком поздно.
Набухли слезы. Пролились. Дрожа, он поднес Чиеву до'Орро к губам, поцеловал, крепко прижал к груди. А потом вскочил на ноги, быстро подошел к верстаку, взял крошечную кисточку из своих и Сааведрииых волос, макнул в мочу, слюну, кровь и, наконец, в краску на мраморной плитке.
Наклонился к портрету, вонзил зубы в нижнюю губу. Он уже не раздумывал, он снова погрузился в глубокий транс, отдался чарам Аль-Фансихирро. На это ушло лишь мгновение, и еще одно — на то, чтобы вывести его имя на щеколде двери, которая вела в комнату Сааведры.
* * *Женщине, стоявшей на коленях подле иконы, сначала показалось, что погасла свеча. В молельне вдруг сгустилась темнота. Сааведра вскинула голову и увидела в безжизненном сумраке тусклый огонек.
Сердце забилось как молот. Сааведра ахнула, прижала к сердцу ладони и ощутила неровное биение. Сильный удар, затем слабее, слабее… Снова мощные и слишком частые удары. А теперь — с опозданием…
Она попыталась вздохнуть. Не вышло.
«Я не могу дышать!»
— Матра… Матра Дольча… — вырвалось из груди вместе с остатками воздуха. Легкие работали. Но не наполнялись.
Сааведра пошатнулась. Хотела схватиться за стол, удалось — за скатерть. Икона сдвинулась, но не упала. Скатерть вырвалась из руки.
Сааведра запрокинула голову в безмолвном крике ужаса. И упала, одной рукой держась за живот, а другой сжимая дощечку, на которой знаменитый Артурро изобразил лики Матры эй Фильхо.
Рука прошла сквозь икону. Сквозь лак, краску, олифу, дерево. Падая, она даже не покачнула стол, не сдвинула скатерть.
Остро пахнуло маслом, воском, кровью, старой мочой. А еще — папоротником, фенхелем, цветами персика.
В тот же миг она ощутила тяжесть цепи на шее, прикосновение холодного металла к теплому, живому телу.
И тяжесть, и холод исчезли сразу. Исчезли и жизнь, и тепло. Остались только краски, смешанные на мраморной палитре и теперь засыхающие на деревянном щите.
Глава 32
Стоял летний зной. Алехандро трясся и выбивал зубами барабанную дробь.
— Ты… — Он осекся. Судорожно сглотнул. Перевел дух, собрался с силами и начал заново:
— Ты знаешь, о чем тут написано?
Грихальва кивнул.
— Она… Она… — Герцог снова умолк. Снова впился глазами в страницу, которую держал в дрожащей руке. И снова заговорил:
— ..Пишет, что желает моей жене.., моей настоящей жене иметь любящего, преданного ей супруга, а не калеку с разорванным надвое сердцем.