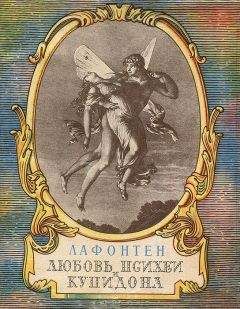Ярослава Кузнецова - Что-то остается
Вона он, возок-то, фонаришко светит. Вообще не понимаю, на кой черт енти фонари на повозках — освещает задницу лошадиную да кучера. Едем, дескать. Налетай, разбойнички… Ладно, не ворчи.
Коняга господина нотариуса брела еле-еле, все норовила с дороги свернуть и объесть куст какой, либо нижние ветки дерева, голые и невкусные. Кучер привалился спиной к стенке возка и тихо похрапывал.
— Стой, подруга.
Лошадь остановилась с готовностью. Я засунулся в возок, снял с пояса дедка футляр для бумаг, из него вытащил трубочку пергамента, копию завещания.
Вот и все, господин Оденг. Что ездили — вспомните, что завещание составляли — тоже. А вот имен — извините. Побочный эффект зельица. Оч-чень пользительный. Для вас для самого, кстати, тоже. Теперь мы вашего кучера разбудим, а вы спите дальше, до Ока Гор вам еще почти четверть трюхать…
Слепил снежок и шмякнул его кучеру в затылок.
Никакой реакции.
Ч-черт, этого только не хватало.
Набрал снегу, сбросил лыжи, запрыгнул на козлы рядом с ним. Запихал снег ему за шиворот.
— М-м, — сказал дружище Люг Сорока.
Пульс нормальный, дыхание тоже…
Перебрал, приятель. И, судя по всему — крепко перебрал. Пропорция, перем-мать!
Тихо. Спокойно. Хоть изругайся, хоть наизнанку вывернись — сейчас тебе их не поднять. И Альсина булавка тут не поможет. Просто нужно время.
Что делать-то? Бросить их так — нельзя. Места у нас тихие, лихих людей вроде не водится, а вот зверье… Кадакар все-таки. Еще решит снежный кот, например, подзакусить господином нотариусом…
Ладно. Слез с козел, напялил лыжи и пошел рядом с лошадью, подгоняя. Через пару миль снова попробуем растормошить кучера.
Свинство это, вот что я вам скажу. Самое что ни на есть свинство.
Альсарена Треверра
— Альса…
Ныла шея. Холодно. Под щекой — гладкие твердые доски. Кто-то скулил и теребил меня за юбку. Я проморгалась, зажмурилась, проморгалась заново.
Абсолютный мрак.
— Альса.
Встряхнули за плечо. Я нащупала руку, край одежды, пояс.
— Стуро… Почему так темно?
— Ночь. Мы спали. Уже ночь.
Кружилась и побаливала голова. Снотворное. Мощное, грубое снотворное. Фу-у, как же мне не везет на все эти зелья!
— Подожди. Отпусти меня Я зажгу свет.
Я разжала пальцы и Стуро выпал в темень.
— Вау, вау! — причитал кто-то, тыкаясь мне в колени. Жесткий, кудлатый. Ун.
— А где Ирги?
— Не знаю. — Стуро шарил по припечку у меня за спиной. Чиркнуло огниво. Жмурясь, я глядела, как он раздувает огонек и пересаживает его на промасленный фитиль.
— Как же так? Ушел куда-то гулять, опоил нас зачем-то… не понимаю…
Стуро открыл печную дверцу, заглянул в остывшее нутро.
— Давно ушел, — сказал он, — угли совсем прогорели.
Отодвинул вьюшку, принялся загружать в печь приготовленные еще с утра полешки. Внутренность осветилась, затрещала сосновая кора. Свет выплеснулся в комнату и я увидела Редду, столбиком сидящую у порога.
Дверца захлопнулась, оставив тонко сияющий оранжевый контур. Стуро перенес светильник на стол. Ун оставил мою юбку и занялся Стуровой коттой. Тот рассеянно потрепал пса за ушами.
— Он обеспокоен. Встревожен. И она тоже. Редда?
Редда вскочила, толкнула в дверь плечом.
— Р-р-ваф!
— Знаешь, милый, им, наверное, надо выйти. Давай отпустим их.
— Редда, где Ирги?
— Ваф! Ваф!
Ун взвыл.
Я отлепилась от табурета, охнула, схватившись за поясницу. Вот что значит просидеть скрючившись за столом добрую четверть. Да еще в выстывшем доме. Отворила дверь, собаки выкатились в сени. Стуро шел за мной со светильником.
Наружняя дверь была закрыта, но не заперта. Свежий снег перечеркнула полоска света. Даже следов никаких не видно. Если что и было — давно замело.
— Редда, Ун, где ваш хозяин? Ищите хозяина!
Псы покрутились у порога, потом пропали во тьме. Мы стояли в дверном проеме, Стуро прикрывал ладонью трепыхающийся огонек. Холодно. Темно. В небе ни поблеска, но снегопад прекратился. Я прислонилась к косяку.
Где-то в лесу скрипело дерево. Надрывно скрипело, неотвязно, не хочешь, а слушаешь. Я ясно видела его — высокого деревянного старика, по колено вросшего в землю. Ночью, в толпе отступивших на шаг соседей, стонет и стонет, раскачиваясь как от непреходящей боли. Надоевший всем старик, которому не дожить до весны.
Не дожить до весны.
— Пойдем в дом, — сказал Стуро.
Мы вернулись.
— Куда он мог уйти? Зачем? Зачем снотворное? Ты что-нибудь понимаешь?
— Снотворное было не для нас, — помедлив, ответил Стуро.
Я опешила. Не для нас? Для кого? Для нотариуса? Для возницы? Он наливал всем из одной бутыли…
— Он сам его пил. Вместе с нами.
Правда, это еще не значит, что он лежит сейчас где-нибудь под кустом. «Учили, вот и знаю», вспомнила я. Принялась рассматривать засохшие подтеки внутри кружек. Сладко. Липко. Не понятно. Поди, разбери, что это за зелье!
Стуро сидел, закрыв глаза. Брови сомкнуты, лоб наморщен. Потом пробормотал:
— Ирги был недоволен, когда мы выпили. Он чего-то ждал. Он… он имел какой-то план… да. Что-то, связанное с тем человеком, который писал бумагу.
Бумага составлена. Нотариус уехал. С ним — копия. Кажется, все в порядке.
Но Ирги думал иначе. Не понимаю. Голова болит.
— Что же нам теперь делать, Стуро?
Он помолчал, глядя на меня из чащи спутанных волос. Губы у него кривились.
— Не… не надо. Не беспокойся так… Подождем до утра. Собаки… они его найдут… Альса…
Да он сам перепуган. Никакой эмпатии не нужно, чтобы это увидеть. Вон, как глаза блестят… не слезы ли это?
Я почувствовала, как у меня расширяются зрачки. Стуро вдруг вскочил.
— Я… я пойду, поищу его…
— Нет! Стой!
Кинулась к нему, обхватила, прижалась покрепче. Перспектива остаться одной повергла меня в ужас.
— Пожалуйста, не бросай меня! Ты сам сказал… собаки найдут…
Он как-то сразу ослабел, обмяк. Ладонь его прикрыла мне затылок. Я слышала, как грохочет его сердце — словно молотком по лбу.
— Да. Собаки. Подождем.
Что мы, собственно, сходим с ума? Завели вот друг друга. Ведь ничего такого… подумаешь, ушел. Еще не повод. Еще спросим его, зачем весь этот балаган…
Остаток ночи мы провели на сундуке, тесно прижавшись. Пялились на светильник и молчали. Два раза Стуро оставлял меня, чтобы подбросить дров в огонь, и каждый раз я боялась, что он повернет в дверь, а там на улицу, и мне его уже не догнать.
Потом за слепым окошком мутная чернота приобрела сизый оттенок, постепенно перелившийся в молочную голубизну. Издалека, как из другого мира донесся печальный отзвук — в Бессмараге звонили к утренней молитве.