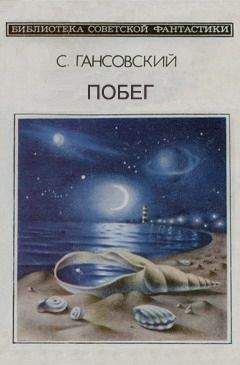Побег из Невериона. Возвращение в Неверион - Дилэни Сэмюэл Р.
Не странно ли, как быстро Клодон понял, что желание и похоть, по крайней мере в его случае, вместе не ходят? У себя в деревне он никогда не искал утех с женщинами, воплощавшими его идеал, понимая, что идеала на самом деле не существует. Он сам состряпал его на манер деревенского певца, берущего строчку из одной песни, припев из другой, куплет из третьей, слышанной от проезжего возницы, – а поколение спустя вся деревня уверена, что в балладе этой говорится о действительном случае с чьей-то прабабкой.
В Колхари ему порой виделся этот идеал или часть его (хотя полностью и так близко предстал лишь в тот день под мостом), но Клодон не приближался к нему по причине, упрощенно называемой страхом отказа.
9. Клодон, стоя напротив женщины у разделявшего их потока, смотрел. Улыбался. Думал. Не дышал.
Женщина, возможно, сказала что-то, сделала какой-то жест, просто моргнула пару раз… а может, и нет.
На счет двадцать Клодона зашатало, на счет сорок у него потемнело в глазах. Он ступил по колено в воду, рассадил обо что-то ногу, влез на другой камень, вернулся к опоре, столкнулся на лестнице с грузным мужчиной, обругавшим его, вышел на мост, облокотился на перила, дыша со свистом; потом закрыл глаза, присел и прижался к камню щекой. На смену полнейшему ужасу, наполнявшему звоном все тело, пришел страх, что кто-то его увидит и все поймет. Но ему было уже все равно.
Чуть позже он поднялся на дрожащие ноги и огляделся.
Трижды попытался сосчитать до десяти, каждый раз сбиваясь, спустился до половины лестницы, заглянул под мост. Солнце бросало мерцающие блики под арку.
Женщины не было.
Вернувшись на мост, он впервые заметил, что его правая нога оставляет на камне кровавые следы. Постоял, прислонясь к перилам, и снова спустился вниз.
Левая нога еще немного дрожала.
Женщина, должно быть, поднялась по лестнице с другой стороны. Он искал ее три дня. Ходил по мосту из конца в конец – не оттого ли мост получил свое имя? Клодон считал себя сильным парнем. Слабость, ужас, помутнение рассудка, овладевшие им при виде той женщины, столкнувшие его в воду, разбившие ногу в кровь, казались ему чем-то неправильным. Более близким к безумию, чем к влечению. Теперь он высматривал ее на Старом Рынке и в переулках, ведущих в торговый квартал.
Как-то вечером, три недели спустя, когда луна взошла рано и задержалась на небе допоздна, он вдруг увидел ее с какими-то молодыми людьми – состоятельными, судя по туникам и сандалиям (уж верно состоятельней, чем она). В серебристом лунном свете ее глаза казались густо накрашенными, и ни рук ее, ни ног он не видел. Но это была она. Юноши, смеясь и болтая – Клодон замер, не дыша – шли, похоже, на мост вместе с ней.
Она прошла мимо, не видя его.
Вид у нее был счастливый.
Его колотящееся сердце мало-помалу затихло.
Больше он ее не видал.
Искать ее снова (а он уж было начал искать, не ее, так похожую) противоречило здравому смыслу.
Потеть над какой-нибудь девкой (или над мужиком, обещавшим за это пару монет), зажмурившись и вызывая в памяти руку, ногу или глаза прохожей незнакомки, было куда безопасней.
И еще: с того мгновения под мостом его всегда слегка возбуждали накрашенные глаза ленивых (или куда как суетливых) продажных женщин. Зная, что заменяет краска, он откликался на нее, как на памятный знак.
10. Но прежде чем вернуться к Клодону во дворе таверны, улыбающемуся женщине в окне как когда-то той, под мостом, мы должны рассмотреть еще одно течение, проложившее по его жизни не менее извилистый путь: похоть.
Мы уже говорили, что Клодон отделил ее от желания на удивление быстро – пусть не в сознании, но в повседневных поступках. Он, как большинство неверионских мужчин, пришел к выводу, что похоть – явление чисто телесное, а желание – духовное; желание может вызывать похоть, но подавить ее довольно легко.
В случае с Имрогом Клодон пользовался похотью как оружием, а когда мастурбировал – чтобы успокоиться, побаловать себя, за что-то вознаградить.
В Колхари Клодон умудрился поиметь трех уличных женщин. С одной они вместе пили, и она дала ему в закоулке за какой-то таверной; ей он не заплатил. В другой раз он тоже попытался сбежать, но был избит здоровенным мужланом, невесть откуда взявшимся. В третий раз заплатил сколько условились из кошелька, украденного у лысого ротозея на рынке; эта, сидя на ступеньке, вычищала грязь между пальцами ног, и ее руки, ноги, глаза походили на те, которые он искал.
Оказалось, что он ошибся во всех трех отношениях: даже краска вокруг ее глаз лежала аляповато (сам он перестал краситься только вчера).
Все три его возбуждали, но то была не звериная страсть, которая нас превращает в детей, а детей ужасает.
Мы разобрались, как сочетались похоть и желание в шестнадцатилетнем Клодоне.
Теперь посмотрим на него в двадцать шесть, десять лет спустя после Колхари.
Он жил тогда в шалаше за деревней на краю пустыни, чьи различия с его собственной он замечал каждый раз, видя, как одна женщина ткет у себя во дворе, а другая тянет вола под уздцы; как мужчина обтесывает соху или купается с трехлетним сынком в канаве у дома.
Клодон уже не был стройным юношей, но пока что не разжирел. В первый свой день он, проходя по деревне, высматривал, что бы такое стащить, чтоб не сразу хватились, или спрашивал местных жителей, не найдется ли для него работы – авось рубцы от кнута не всех отпугнут. В последний день высматривал добычу покрупнее, чтоб унести ноги вместе с ней, в промежутке же ходил по вечерам к женщине лет на десять старше его, некрасивой и малость тронутой, жившей в развалюхе у самой околицы. Клодон приносил кувшин пива, они сидели у ее хижины, и он спрашивал:
– Знаешь, что это?
– Да никак грязь…
– Нет. Столичные женщины этим глаза подводят. Сама попробуй, тебе пойдет.
– Что, прямо в глаза вот это совать?
– Нет, намажь вокруг глаз. Дай покажу…
– Уйди, не хочу я!
– Да ты попробуй, это ж не больно.
– Вот сам и мажься.
– Да, мужчины тоже иногда это делают, но по-другому. Вреда от этого никакого, слово даю. Убери руку! Смирно сиди! Вот так. Теперь ты ни дать ни взять благородная столичная дама!
– Ты-то видишь, что намазал, а я не вижу.
– Настоящая дама. Красавица. Давай еще выпьем.
– Сам пей.
– С большим удовольствием. – Он поднимал кувшин; солнце грело снаружи, пиво изнутри. Потом он что-то рассказывал ей, она смеялась, а он смотрел на нее с дурацкой улыбкой. Потом они ложились, то в хижине, то прямо здесь, на земле.
Иногда она вдруг принималась плакать.
– С чего это ты?
– Не знаю…
Пару раз он старался ее рассмешить, потом ему надоело. Однажды он просто ушел, спугнув трех ребятишек – они прятались за валуном и подглядывали.
Но обычно все у них шло как по маслу. Порой, когда он засыпал, женщина садилась, водила пальцем по рубцам у него на боку и пыталась вспомнить, почему с такими вот разукрашенными нельзя говорить, нельзя даже смотреть на них. А уж если тебя кто увидит с ним, особенно дети…
Таких мужчин, как Клодон, у нее, по правде сказать, еще не было.
Особенно если накраситься и улыбаться ему.
Перейдем к тридцатишестилетнему Клодону.
Тогда он промышлял вместе с двумя другими ворами.
Младший, ленивый и злобный, исполосованный побольше его, не выносил одиночества и цеплялся за двух других, но при этом воровал у них, врал им и временами лез с ними в драку.
Старший кнута избежал. Клодон считал его трусом, несмотря на все рассказы о воровских подвигах, но вожака он, как правило, слушался.
Они уже месяц жили втроем в грязной хижине в миле от Винелета – ее владелец, бывший товарищ младшего, плохо кончил. Некоторые замечания последнего, как пьяного, так и трезвого, вызвали у Клодона подозрение, что парень-то его и убил.

![Кристофер Сташефф - Чародеи [Побег. Чародей поневоле. Возвращение короля Кобольда]](/uploads/posts/books/53784/53784.jpg)