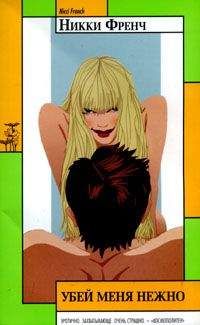Юлия Остапенко - Лютый остров
И вот треснула, подломилась та хворостиночка, что сберегала Орешнику всю жизнь его хотя бы видимый душевный покой. И рухнула на него, ничем более не удерживаемая, глыба тоски. Все, чем он жил, все, что он нажил, – все было замешано на черной колдовской силе, а в наследство теперь перейдет жестоким и подлым детям. И на что оно нужно, это богатство, когда от тех, кто делит его с тобою, тебе только страх, унижение и позор?
Ушел Орешник из дому. Два дня ходил по корчмам и кабакам, пил с простым людом, забредал за город, мимо Золотого Брода ходил, мимо проклятой бабской бани, мимо рощи, мимо Осетровой пасеки – да где Осетр, помер давно Осетр, а пасеку перекупил мелкий купец, бывший у Орешника на посылках... И коловоротом все в голове его мешалось: баня, роща, пасека, голоса, обещания, теплые руки на шее, вымазанные в липком меде... да только горчил тот мед, и под толстым слоем его шевелились, выпуская жала, злые пчелы.
Вернулся Орешник в свой дом на третью ночь затемно. Все уже спали, только сторож у ворот нес дозор. Узнав хозяина, ахнул от радости – обыскались уж в эти дни Орешника, думали, сгинул совсем. Орешник знак ему дал: молчи, мол, – а сам вошел в ворота и пошел по двору, оглядывая его так, будто впервые видел. Большой двор, просторный... а все ж тесный, будто самая темная и грязная тюрьма. Проделав с полсотни шагов и дойдя до того самого амбара, за которым Желан свою будущую невесту бил ивовым прутом, Орешник услышал голоса и остановился. Огляделся – кругом никого не было, дом был темен. Из-за амбара доносился тихий женский плач, а с ним – голос тихий, но такой жаркий, такой быстрый, что Орешник невольно прислушался.
– Завтра же, завтра пойду его сам искать, слышишь? – горячо говорил сын его – да не старший, Желан, а младший, Иголка. – И найду, хоть бы мне на дно речное нырнуть за ним пришлось, и все ему расскажу, все как есть! А там пусть хоть голову снесет!
– Да что ты говоришь такое, что? – всхлипывала Иволга, и по голосу ее Орешник понял, что все эти два дня она плачет, с утра до ночи и с ночи до утра, и забыла уже, как это – не плакать. – Как ты ему такое скажешь?..
– Как есть, всю правду скажу! Я сам виноват. Только я и виноват, а не ты вовсе – девка никогда не виновата... Скажу, что я во всем повинен, а Желан узнал и использовал, знал, что ты меня не выдашь.
– Да какая разница, Иголочка, ты или он... Правда одна: я опозорила батюшку, и никогда он меня теперь не простит. А как узнает, что с тобой я согрешила, а не с Желаном, – так и тебя не простит.
– Почему не простит?! Ну ты ровно не знаешь отца! Он же тебя любит, и меня любит, да он даже Злата с Желаном любит, он и их тоже всегда прощал...
– Иголочка, милый мой, да ведь не можешь ты, по закону нашему, жениться прежде, чем женятся старшие братья. А про мой позор все теперь прознали. Мне теперь или тотчас же под венец, или в монастырь идти – третьего не дано. Я знаю, как батюшка вернется, он вот такой выбор мне даст: или идти за Желана, или в монастырь.
Орешник так и похолодел. Не то чтоб не мелькало у него этой мысли – так всегда и делали, если узнавали, что девка нечистая: замуж за того, кто назвался соблазнителем, или Радо-матери курения возносить до гробовой доски. Но не мог он силовать свою Иволгу ни на одно, ни на другое – оттого был в таком отчаянии, и теперь при мысли, что девочка его иной судьбы для себя уже не ждала, отчаяние это стало только втрое сильнее.
– Тогда бежим, – сказал вдруг Иголка, и Орешник, хотя и не видел их, понял, что он схватил Иволгу за руки и крепко-крепко сжал. – Убежим с тобой вместе, и никто нас не найдет! В Янтарь-город бежим... там Злат... он нам поможет. А откажет – так и вовсе уедем из Даланая, да вот хоть бы в Фарию! Ты ведь, может, и сама оттуда родом, может, там твоя родная земля...
Иволга слушала его сперва молча. А потом засмеялась, и смеялась, смеялась сквозь слезы, пока он, захлебываясь, горячо и страстно бормотал, а потом осекся и смолк.
– Ох, Иголочка! Милый мой, любимый! Да даже если бы и правдой было то, что ты говоришь, как же мы сможем жить? Ты еще толком не умеешь ничего, да и я...
– А что – ты! Ты ведьма! Наколдуешь нам богатства да недругам бедствий, как всегда делала, и все хорошо пойдет, – бесхитростно сказал Иголка, и понял только тут Орешник, до чего мал еще и неумен младший его, любимый сын... а и откуда бы взяться уму, когда видел он всю жизнь вокруг себя только то, о чем теперь говорил.
Но как бы неумен и малодушен ни был его совет – был он, пожалуй, мудрей всего, что мог бы измыслить сам Орешник. Потому что сам он не знал, что делать: побоялся бы пойти против людской молвы и неписаного закона, но знал в то же время, что по закону поступить – значит обречь свою девочку на вечное несчастье. И готовился он уже сам ступить за угол амбара, предстать перед своими детьми и благословить их на преступный побег, когда Иволга вдруг сказала, так тихо, что он едва расслышал:
– Если в и так... ты напомнил мне... я забыла совсем... что я ведьма. Я не могу уйти.
– Почему?!
– Не могу, Иголка, и все, не спрашивай, почему. Не могу я оставить Кремен и дом твоего отца... не сейчас. Я слово дала. И должна исполнить свой долг.
Долг... да знает ли балованный, легко думный Иголка слово такое – долг? «Отчего, – подумал Орешник, – я так и не сумел это слово вложить в голову ни одного из своих сыновей? Неужто оно сложней, чем песни, которые они поют, или книжки, которые они читают? И кто вложил это слово в голову и сердце маленькой Иволге, от которой я и думать не думал ничего требовать – никогда?»
Кто? И что крылось за этим словом? Что и кому она должна?
Так думал Орешник, стоя за углом амбара, слушая, как Иголка снова шепчет, а Иволга отвечает: нет, нет – и не плачет больше, будто вовремя вспыхнувшее слово это – ДОЛГ – разом утвердило ее в решении, которое она никак не могла принять. Под конец, правда, опять немножко поплакала, а после смолкла, когда, отчаявшись убедить, стал Иголка ее целовать. Понял Орешник, что нечего ему больше тут слушать – и ушел от амбара, тяжким, шумным шагом, но они все равно его не услышали.
Так никем и не замеченный поднялся он в спальню, которую делил с женой. Медовица лежала на постели в темноте, по горнице разносилось ее ровное, тихое дыхание. Орешник подошел к кровати и сел на край.
– Орко... ты... пришел... – прошептала Медовица у него за спиной. – А я-то...
И замолчала. Что не стала договаривать? О чем думала те два дня, пока он незнамо где ходил, незнамо о чем думал? Да и вспоминала ли она о нем? Или рада была, что сгинул...
– Скажи, Медка, – не оборачиваясь, проговорил Орешник. – Когда ты мне сказала, что меня ждет лютая гибель и только твоя дочь, от меня рожденная, сможет меня спасти, – ты ведь тогда солгала?