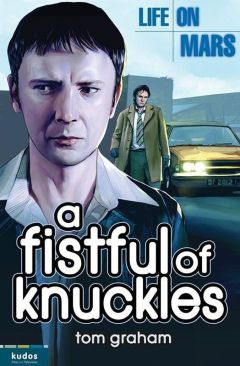Татьяна Мудрая - Карнавальная месса
— Дальше… Вошел ты, бросил свою одежду на мою и лег рядом, застыл, точно мертвый, даже глаза открыты и не моргали. Я испугалась, стала целовать тебя в веки, чтобы их сомкнуть. Ты не помнишь?
— Помню, — я как через мглу рисовал себе параллельную цепь иных событий, сплетающуюся с моим бурным сновидением. — И я ответил тебе, но как сомнамбула. Этого тебе не хватило для полного спокойствия. Дальше?
— Я не хотела… Страшно. Я люблю тебя, но на мне запрет, понимаешь? Я ведь зачем отошла — мне надо было до того узнать, кто я такая.
— Да? По-моему, объект такого изучения всегда имеешь при себе.
— Во мне что-то набухало, хотело излиться, точно у женщины, которая вот-вот родит. Любовную азбуку мы учим так же просто, как и обыкновенную, я всё знала, и всё было не так, Ты крикнул гортанно, чужим голосом, отбросил мех, взвился и пал вниз, как коршун. Твое сердце дрожало в своей клетке, губы твои язвили. Я хотела увернуться и убежать, но ты удержал. Навалился, как подрубленный ствол… твои волосы набились мне в рот, я пыталась завопить, прорваться к тебе — невозможно! И эта жуткая тишина — кричи не кричи, а нет никого не только в городе — в целом свете.
— Так он, видать, и было, — угрюмо добавил я, — Ни Дюрры, ни нижнего этажа — замкнутая вокруг нас двоих пространственная капсула. Кто-то всласть подшутил над нашим келейным чувством. Вроде бы даже я. И что — я взял тебя, да?
— О-о. Я пыталась свернуться в комок, оттолкнуть тебя ногами — это такой способ женской защиты, которому учат Странниц. Но во мне самой что-то оборвалось, прорвалось… ты улучил именно это мгновение, с силой развернул меня, перекатил на себя и проник. Мое тело было теперь легким, как мяч, которым играет морской лев, и ему было все равно. И сила ушла, и страх, и я сама… и даже боли не было ни капли.
— Хоть это слава Богу.
— Но тут ты снова жутко, по-женски закричал, пронзительно и будто с облегчением. Будто взял эту мою боль на себя. И наши воды слились. Потом ты как-то сразу ослаб, упал навзничь и вытянулся, твоя хватка разомкнулась, и я смогла уйти.
— Недалеко же ты ушла, — я поставил ноги на ковер. Обнаружилось, что я голый, как обсосанный леденец, и такой же тонкий и пустой внутри. — Пойти под душ, что ли, авось в черепушке прояснится.
Она не ответила.
Вернулся я посвежевший и тоже в халате — купальном, махровом и коротком, как у борца в перерыве между схватками.
— Давай подытожим. Я тебя подманил колдовством. Раз.
— Но… — попыталась она возразить.
— Я не имел права посягать на бесплодную и даже ее хотеть, пускай бы весь свет меня к этому толкал. Им было наплевать на ихнюю мораль, мне мой кодекс вообще такого не запрещал, но ты ведь по своей воле от нас ушла.
— В лес, где кочуют леты и склавы. Там корень моей матери цыганки Мариан, и оттуда она пришла в круг Эйр-Кьяя. Я должна была спросить…
— Неважно. Это два. И третье. Я тебя изнасиловал, уж это с какой стороны не посмотри. Так что плохо мое дело.
— Джош, не болтай ерунды, — она встала, запахнув плотнее одежду. — Можно подумать, я доносить побегу. Предъявлю улики. Вот это, — она брезгливо пихнула носком ворох тряпок на полу. — Или синяки от твоих пальцев. Ты ведь так обо мне думаешь?
— Я о тебе вообще напрочь не думаю, — подошел, обхватил рукой ее теплый затылок, приподнял голову. — Я думаю о себе. Каково мне станет всю оставшуюся здесь жизнь ходить с неумытым моральным обликом? И натыкаться на твой взор, полный лебединой кротости и немого укора? И думать, что это из-за меня ты отправилась еще в одно добровольное изгнание. А то и скитаться с тобою по чужим путям вместо своих… — я, кажется, начал расходиться не на шутку и шатал ее голову из стороны в сторону, как маковую погремушку, чтобы вытрясти оттуда дурманные мысли.
— Джош. Перестань! Ну что, что же делать?
— Утром пойду к Джози или Шейну и попрошу, чтобы меня судили по здешним законам. Угробить не угробят — это физически нереально.
Иола чуть подрагивала кожей, как нервная лошадка, но постепенно успокаивалась, даже голову спрятала у меня в гриве.
Вверху на небо, наконец, выкатилась полная луна, похожая на луженый донкихотовский шлем, и залила мир своим фантасмагорическим и фосфорическим сиянием.
— Ну, а теперь… — сказал я решительно, разматывая пояс и извлекая ее гибкую фигурку из расшитой, коробом стоящей упаковки. — Теперь…
— Зачем это, Джош, ах, зачем? — вздохнула она и попыталась натянуть одеяние снова. Только я уже нес ее на руках назад к нашему ложу из кардинальского атласа, ее, мою опаловую бусинку с рассыпанного ожерелья, — и грудь моя и чресла насквозь проникались ощущением ее живого, пугливого, переливчатого тепла.
— Как это зачем? Грех только тогда вменяем, когда совершается в здравом рассудке и твердой памяти… с чувством, толком, расстановкой… с удовольствием и наслаждением…
— И я закрыл ее протестующий, смеющийся, пунцовый рот, ее плачущие глаза, ее напрягшееся и вдруг сделавшееся сладостно податливым тело своими поцелуями и самим собой.
И уже ни в явных мыслях, ни в глубине наших подсознаний не мелькали эти невесть откуда взятые слова: «Авраам и Сарра. Сестра и брат».
На следующее утро я потопал прямо к Джозиену — не в клуб, а в контору.
— Иола вернулась, — доложил я без подготовки. — И она моя жена.
— Ну, гора с плеч, — вздохнул он. — Это же сумасшедшая. Шейн говорил…
— Погодите выражать облегчение, — перебил его я. — Учтите, я сам шизик. В вашем мире все равновесие на шизиках держится. Хотят прийти — убегают, любят — приходится из них эту любовь добывать, как руду из штольни, и выбивать, как искру из огнива, истец молчит в тряпочку, а обвиняемый из дурацкой совестливости объявляет на себя розыск. Словом…
Словом, я расписал ему все как по нотам, кроме того, что я еще и рецидивист. Ну, и кроме кое-каких квазиреальных сомнений.
— И надо было вам это выкладывать, — он горестно покачал головой. — В самом деле из одной честности?
— Да нет, пожалуй. Девочка не в себе, тоски и пошлости нахлебалась. Утешить захотелось.
— Из суда выйдет комедия, фарс. Вверх ногами, вниз головой.
— Что и надо для того, чтобы снять стресс. А вообще, Джозиен, вам не приходило в голову, что святой Петр недаром именно так и распялся? Что все Христовы заповеди блаженства, все моральные нормы все перевертывают мир вниз маковкой противореча естественному праву и бытовому порядку вещей, хоть на первый взгляд именно этого-то и не скажешь? «Блаженны нищие», «отдай вору рубашку», «подставь щеку под заушение». Мы этого не замечаем, считая простым максимализмом, потому что уже сами в какой-то мере оборотные. Или ищем какой-то мелкий рационализм. А ведь это законы нравственного антимира, у вас здесь именно антимир, в котором вы должны удержаться. Выбрыки вроде униформы святого Патрика или перманентного Дня Смеха — рябь на воде, потуги без родов.