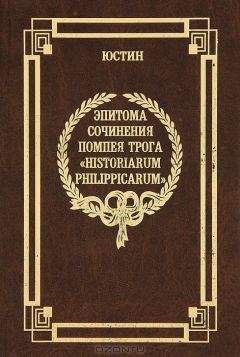Марина Дяченко - Любовь и фантастика (сборник)
– Думала, я не догадаюсь? Ведьма!
И побежал за свой спутницей – сквозь ряды неподвижных металлических туш, за барьер, к лестнице, ведущей вниз…
– Саня!
Еще можно было его остановить. Потому что – Улия знала – если он уйдет сейчас с ней, с этой женщиной, через царство подземного ветра – случится чудовищное, все фонари навсегда погаснут, потоки движения навсегда замрут, опустеют и оборвутся провода, растрескается асфальт, лопнут стекла…
Возможно, она преувеличивала. Но в тот момент ей казалось именно так.
Еще можно было его остановить.
Даже на каменной лестнице, ведущей вниз, было еще не поздно. Подземный ветер дышал смрадом и поднимал волосы – но время еще было, Санина кепка мелькала впереди, Улия знала, что сумеет, сумеет его остановить…
А потом ее подхватила людва.
Людва в час пик.
Улия скоро потеряла из вида Саню; ее пронесло мимо турникета, подземный ветер был повсюду и забивал дыхание, и Улия поняла, что это конец.
– Саня!
Черные ступеньки сами несли ее вниз. Она пыталась идти против течения, но людва держала, как застывающий бетон. Людва что-то недовольно выкрикивала; слышался голос с полукруглого белого потолка, голос говорил о том, что «метро – вид транспорта, связанный с повышенным риском для жизни, и потому требует четкого соблюдения правил»…
Лестница утащила ее глубоко под землю, под асфальт и траву, под слои песка и глины, под гнилые развалины и слежавшийся пепел, под древние кости людей и лошадей, под Город, в преисподнюю.
Поток людвы, безликий и безжалостный, вынес ее на узкую платформу между двумя провалами. Санина кепка в последний раз мелькнула впереди – и пропала за массивной колонной.
Из черноты тоннелей рванулись навстречу друг другу два воздушных потока, гонимые, как поршнями, мордами синих подземных поездов. С двух сторон надвинулись горящие глаза – два белых внизу и два красных, как угли, вверху. Встречные ветры сплелись посреди платформы; из мгновенного смерча навстречу Улии шагнул Подземный Ветер – именно такой, каким он должен быть.
Уже окутанная им и брошенная на холодный пол, она повернула голову и успела увидеть, как из окна отъезжающего поезда на нее смотрит, в последний момент обернувшись, Саня.
Эпилог
Имя его было, как осенний лист, перезимовавший под снегом – тень имени, воспоминание, может быть, легкая тень сожаления, приподнятая бровь: да, был такой певец… Правда, великое будущее, которое ему прочили, так и не состоялось. Уже спустя год о нем мало кто помнил – были другие, и много, и ярких, и пестрых, и бойких и полных жизни, афиши наслаивались одна на другую, как годовые кольца большого дерева. Лицо его, спрятанное под слоями бумаги и клея, стало одним из многих, лицом в толпе, никто не знал его имени, никто не оборачивался вслед.
Одинокий и бездетный, с годами он приобрел маленькую странность: по ночам, за считанные минуты до закрытия метро, он садился в последний поезд и выходил всегда на одной и той же станции. Уборщицы узнавали его, иногда посмеивались, а иногда на всякий случай сторонились.
Он будто искал кого-то. Но никогда не находил.
А за его спиной уборщицы на разных станциях метро – особенно те, кому часто приходилось работать ночью, перед самым закрытием – передавали друг другу подземную легенду.
Клялись, что действительно видели. И дежурные, и милиционеры, хоть и держали язык за зубами – видели ее. И некоторые машинисты тоже.
Девушка лет двадцати, тонкая, высокая, с рюкзачком за плечами, одетая всегда – и летом, и в стужу, и в дождь – в потертые джинсы и курточку-ветровку. Никто никогда не замечал, как именно она возникала. Может быть, и в самом деле из тоннеля. Иначе откуда на перроне, уже запретном для пассажиров и секунду назад пустом, вдруг взяться девушке?
Ее окликали – она не слышала. Трогала, будто слепая, мрамор колонн или облицовку стен, оглядывалась недоуменно, а потом будто вспоминала, что хочет уйти – и шагала сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее в конец подземного зала, к выходу, туда, где дорабатывал последние минуты несущий вверх, под небо, эскалатор.
КОНЕЦ
Я женюсь на лучшей девушке королевства
«Я выбежала в сад, водопад волос струился по моим плечам. Я протянула руки – и мой король, мой господин заключил меня в страстные объятия. Сердце мое забилось часто, как пойманная птица; грудь моя разрывалась от счастья. Губы наши соединились трепетно и нежно, и первый поцелуй, целомудренный и страстный, скрепил наш долгий путь навстречу друг другу как будто огненной печатью…»
* * *Девушки прибывали, как половодье. С лакеями и без лакеев, с мамашами и без мамаш, с сундуками, зонтиками, шляпными картонками и лютнями в футлярах. Строгие гладкие прически, наглухо закрытые одеяния безо всяких новомодных вольностей, цветы в руках и в волосах, взоры горящие, но скромно опущенные долу – всех приглашали за ворота, всем кланялись дворцовые слуги, и распорядитель, седой и бесстрастный, заносил имя гостьи в реестр. Я оказалась двенадцатой, шутка ли, а ведь за моей спиной ожидали своей очереди еще не менее дюжины претенденток.
Мамаши и лакеи остались за воротами. Распорядитель вежливо, но твердо объяснял, что во дворце достаточно своих слуг, и что ни одна гостья не пострадает от недостатка внимания – однако всем, кроме девушек с приглашениями, вход во дворец заказан.
Многие терялись, оставшись без привычной опеки. Затравленно озирались; нервные руки обрывали лепестки с несчастных цветов, нервные губы терзаемы были белыми ровными зубками, кое-кто даже наладился плакать. Как же, оторвали от мамочкиного подола…
Нас проводили во внутренний дворик, тенистый и гулкий, с деревьями в кадушках и фонтаном посреди зеленого газона. Здесь во множестве имелись кресла и парковые скамейки: девицы расселись, как птички, на уголках подушек и краешках подлокотников, и я наконец-то смогла их как следует рассмотреть.
Все они, голубушки – как и я – несколько дней назад откликнулись на призыв глашатаев, передавших стране волю молодого короля. И, подчинившись этой воле, все они – как и я – написали сто строк о своей воображаемой любви, воображаемой, потому что ни одна из них не ведала прежде мужской ласки (что подтверждено было ручательством высокородных родителей, либо уважаемых соседей, либо поселкового старосты – короче говоря, самой авторитетной особы из тех, кто хорошо знал претендентку).
Итак, они сидели, бледные, напуганные, прикрывшись от солнца зонтиками – всего двадцать пять юных (я в мои девятнадцать была здесь почти старухой), хорошеньких (а сколько еще романтичных, сентиментальных, но не таких привлекательных – остались дома, так и не дождавшись приглашения?!) и целомудренных королевских гостий. Кое-кто, боясь поднять глаза, разглядывал свои башмаки либо водил прутиком по гравию; кое-кто посмелее потихоньку рассматривал новоявленных товарок. Эти, что посмелее, были в основном юные горожанки – каждая окружена была сундуками, будто генерал солдатами. Имелось несколько аристократок – сдержанных, с неестественно прямыми спинами и почти без багажа, с одними только лютнями. Крестьянки тоже были – в пышных праздничных нарядах, с многоярусными ожерельями на длинных загорелых шеях, бедняжки сидели, съежившись, отчаянно стесняясь своих грудей, коленок и толстых кос.