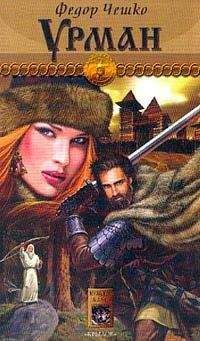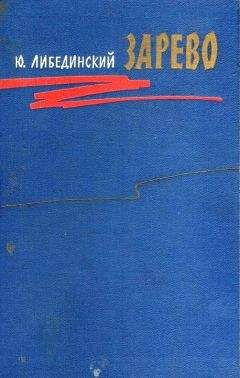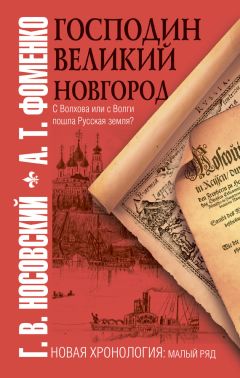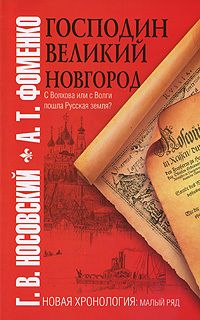Федор Чешко - Ржавое зарево
Да, Векша… Мало что собою пригожа — ведь и даровита, и умна… А только умна снова-таки по-бабьи. Потому при несомненной своей рассудительности сплошь да рядом выбрыкивает такое, что хоть падай, хоть стой, хоть волчиной вой.
Ну и спрашивается: можно ли затевать серьезное дело, имея при себе хоть одну бабу, если даже лучшая из них?..
Хоть одну…
Одну — то бы еще половина горя.
А ежели двух, причем одинаковых?
А ежели к ним в довесок еще и третью?
…Боги, сколько же сил истратил Мечник на попытки отвязаться от Векши — и от нынешней, и от той, которою она была два с половиной года назад… Чем убедительней он объяснял свое «нет», тем торопливей и громче (вот и все тебе доводы!) Векша выкрикивала «да», и точно так же взвивалась за нею Мысь: бывшая златая богиня, похоже, вообразила, будто Вятичихой движет стремление быть рядом не с мужем, а с Жеженем. Кажется, Мысь не верила, что можно по доброй воле предпочесть пожилого из чужедальней дебри ладному парню-златоумельцу. Значит, это сама же Векша была неспособна поверить в такое всего лишь чуть более двух лет назад. А теперь может? Хотелось бы надеяться, очень хотелось бы…
Наедине вятич, возможно, и сумел бы переупрямить Горютину дочку. Но эта Мысь… Ох же ж и стервозной щенявкой, оказывается, была Векша до того, как ее подукатала да выучила уму-разуму злюка судьба!
Мечник просто ополоумел от бесконечного пустопорожнего спора. Это ж подумать: после ТАКОЙ ночи… в незнакомой чужой избе… рядом на полатях лежит обморочный хозяин, под стеною — дохлое невесть что, а на тебя едва ли не с кулаками кидаются собственная твоя жена и без году день как оживший златой истуканчик! Тут, пожалуй, не то что ополоуметь — вовсе обезуметь легкого легче!
Ополоуметь-то вятич ополоумел, а только все едино не мог он вынудить себя прибегнуть к тому способу, каким вроде бы и естественно, и прилично степенному мужу урезонивать задурившую бабу. Ну никак не мог Мечник ударить жену — особенно при посторонних, особенно на глазах у Мыси после Векшиных слов там, в темных сенях проклятой златокузнецовой избы. Вот саму бы Мысь Кудеслав с превеликим удовольствием попотчевал доброй затрещиной, только очень не хотелось сызнова бить Жеженя, который бы наверняка кинулся на защиту. Вряд ли получилось бы утихомирить не в меру завзятого сопляка тычками да толчками, а бить по-серьезному… Парень и после давешнего-то еще как следует не очухался, от нового же честного удара мог не очухаться вовсе.
Продолжать спор не было ни терпенья, ни сил, ни смысла; прекратить же его можно было лишь уступив взбалмошным строптивицам. Леший знает, чем подстегивалось упрямство обеих. Желанием разделить с возлюбленным опасность? Бабьим страхом потерять мужика? Но неужели они так-таки неспособны были понять, что, навязываясь этим самым возлюбленным мужикам в спутницы, лишь приумножают и опасность, и вероятье потери? Или для бабы аж настолько важно знать, что ее избранник не достался другой, а всего лишь погиб? Так важно, что за подобное знанье не жалко уплатить и его жизнь, и собственную, а в придачу судьбу всего здешнего мира со зверьем, людьми да богами вместе?
В конце концов вятич едва не разбил кулак, грохнув им о столешницу, и так рявкнул, что даже убитый выворотень, кажется, вздрогнул:
— Либо вы не идете, либо вообще никто не идет!
И тут вдруг хранильник сказал:
— Пойдете все четверо.
Ни взгляд, ни узловатые высохшие пальцы свои не отнял Корочун от Чарусина оголовья, и говорил он вроде бы для оголовья же или для своих рук. Тихо говорил, равнодушно. Но было в голосе старца нечто такое, что…
Что пошли все.
…Они отправились незадолго до следующего полудня.
К той поре волхв расстарался добыть для путников всякие нужные мелочи и хороших коней. Ильменцы-то было принялись ратовать за лодейное плавание, но Мечник сперва прикрикнул, потом снизошел объяснить: выворотни не такие полудурки, как Жежень с Мысью, а потому обязательно станут опасаться погони да чинить засады, на реке же не спрячешься и опасное место не обойдешь. К тому же сами ильменцы говорят, что речной путь выйдет заметно длинней суходольного — река большой дугой выгибается, а посуху можно и напрямик…
А еще волхв дознался-таки о месте, где ржавые будут творить свое колдовское действо.
Речной полуостров, безлесый, почти бестравный, с огромным холмом-могилищем то ли ямьских, то ли вовсе неведомого языка-роду воев, павших в побоище опять-таки невесть с кем. Холм тот посвящен Светловидовым инакопрозываемым воплощеньям, которые почитаются несловенскими племенами как добрые божества. На вершину давнего могилища ржавые и призовут Борисветову рать — укус в самое сердце Светловида-Рода. Укус, который через десятки десятков лет окажется неисцелимо смертельным.
Раздобыть коней и вызнать необходимое хранильник успел вечером все того же богатого событьями дня. Где, как — этого Мечник не знал, потому что занимался другими делами.
Сперва по Корочунову совету вятич с почти совсем уже оклемавшимся Жеженем уволокли и спалили в кузничном горне мертвого выворотня (отрубаемые Кудеславовым мечом куски нездешней плоти горели странно: ярко, бескопотно и несмрадно). Потом Кудеслав сходил к Горюте, забрал своего уцелевшего коня, доспех, шлем и лук со стрелами. Горюте с Горютихой вятич не сказал ни слова, хоть те из шкур выворачивались, домогаясь знать, что такое творится и когда доченька воротится к родимому очагу.
Горюта, верно, слыхал, куда именно утром кликнули Векшу, и позже, явившись к златокузнецову жилью, кричал из-за плетня дочь.
Вятич было попробовал выгнать жену на эти призывы: вдруг взбрело ему, что любезный батюшка сумеет удержать свое чадо от затеянной дурости (хоть чем-то же должен вздорный спесивый мужичонка оправдать наконец свое существование на белом свете?!). Векше явно очень хотелось попрощаться с родителем, однако Мечниковы надежды она разгадала и потому из избы не вышла.
Вместо нее вышел Корочун. (Мысь, кстати, услыхав Горютин голос, с перепугу забилась под полати и застряла там — еле потом вытащили.)
Как волхв спровадил Векшиного родителя? Быстро. Никто за ними не подглядывал, а сам хранильник о подробностях умолчал.
Все это было вечером.
А ближе к ночи незваные златокузнецовы гости перебрались в кузню. Будь Чаруса при памяти, он бы, верно, охотней согласился сам с себя кожу содрать, чем допустить чужих своевольничать в этаком сокровенном месте без хозяйского нагляду. Но Чаруса никому ничего не мог запретить. Домочадцы же его лишь вздыхали, когда сперва Жежень, а за ним и остальные побрели из жилья. Чарусиха, правда, упрашивала волхва да Мечника перебыть до утра в избе — дескать, негоже этаким почтенным мужам ночевать где попало. Без труда разгадав истинную причину ее настырного гостеприимства, Кудеслав снова (в который уж раз!) обошел все избяные закоулки и сказал, что никакой опасности больше нет. То же подтвердил и Корочун, добавив, будто хозяину избы волхвовской присмотр не надобен (златокузнец-де уж не обморочен, а просто спит). С тем оба и ушли.