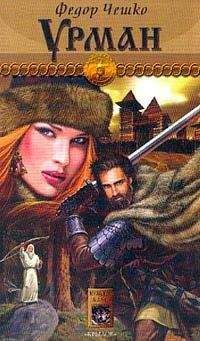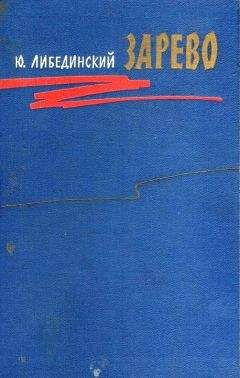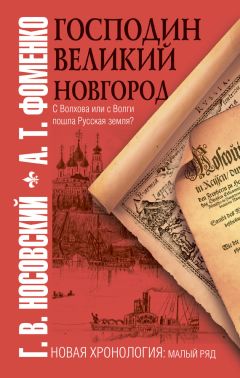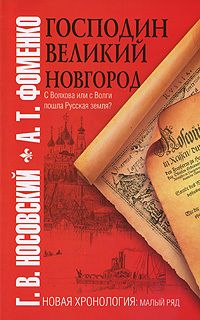Федор Чешко - Ржавое зарево
— А что ты думаешь — ежели мудрец, так уж и… — Хранильник захлебнулся горьким смешком. — То-то и плохо, мил-друже, что чем могутнее разум, тем легче иному колдуну подмять его под себя. Ну, ладушки! — Он крепко прихлопнул ладонями по столу. — Дела, в общем, такие: выворотни — и кто там еще с ними? — забрали изделанное Чарусою да ушли. Хотят они златой конский череп водрузить в правильном месте в нужный им срок и сотворить обряд, открывающий путь с Нездешнего Края на Здешний Край. Что за место такое — то мне покуда неведомо, однако же к вечеру непременно дознаюсь. Срок их я уж давно исчислил: считая от нынешнего, еще двое на десять ден… — Корочунов рот мучительно искривился, будто бы дряхлый волхв побарывал мимолетную тошноту. — Вот… Сколько всего было нездешних — дело темное. К Чарусе ходили двое, на Идолов Холм — один, причем какой-то иной. И один выворотень остался надзирать за этой избой, тут и подох. А оставлены ли еще соглядатаи, каковы они числом и природою, каковы числом и природою те, что унесли Кость, — все это мне неведомо. Ведомо мне другое: ушедших нужно догнать. Изначальную Кость надобно либо отобрать, либо испортить — причем непременно успеть со всем этим до сотворения ржавыми зайдами их чародейственного обряда. Иначе…
Снова не договорил волхв, опять он ссутулился и затеребил Чарусино оголовье.
— Что ж, — Мечник пожал плечами, — как вызнаешь место этого самого обряда, так и двинусь. Чего уж тут кряхтеть да стол обнюхивать, ежели все ясней ясного?!
Пальцы Векши вновь крепко ухватились за мужнин локоть.
А хранильник сказал, не поднимая глаз:
— Ты подумай. Я-то с тобой пойти не смогу — такая дорога не по моим нынешним силенкам. И Остроух не сможет пойти…
— Я пойду, — неожиданно отозвался Жежень. — Коли черепушку эту… кость то бишь… коли ее нужно портить, то кто, как не я? А потом, — он с усмешкою глянул на Мечника, — ты же обещал научить меня драться. Ну как выворотни тебя того… вывернут… Что ж мне, так и оставаться неученым? Придется уж дорогою перенимать твое уменье!
Мечник в ответ лишь хмыкнул да бородою мотнул — то ли одобрительно, то ли с сомнением. Потом обратился к волхву:
— Слышь… Ты, может, Векшу мою покуда у себя приютишь? Неохота мне, чтоб она в родительской избе меня дожидалась…
Почему «неохота», он не успел объяснить — жена перебила:
— Стану я тебя дожидаться! Я с тобою отправлюсь, понял?!
— И я! — тут же вскинулась Мысь. — Все равно у меня здесь ни крова, ни обороны, ни достояния — одна рубаха, и та не своя.
Скрипнув зубами, вятич уже набрал в грудь воздуху для ответа обеим непрошеным доброхоткам, но тут Векша обожгла мужнино ухо щекотным шепотом:
— Выйдем-ка в сени, что-то скажу. Нужное очень.
Мечник послушно встал. Не хотелось ему спорить по пустякам — больно уж тягостные предстояли споры из-за серьезных дел. Поди попробуй отговорить хоть одну Векшу от того, что вдруг (а значит, накрепко) втемяшилось в ее рыжую голову. А уж двух Векш…
В сенях было прохладно, а когда вятич по требованию жены прикрыл за собою дверь, стало еще и сумрачно — лишь узкая полоска света резалась сквозь оказавшийся почему-то неплотно притворенным выход во двор.
Мгновенье-другое Векша молчала, собираясь с духом. Потом спросила, как в ледовую воду прыгнула:
— Помнишь, ты мне обещался взять вторую жену?
— Ну… помню… — меньше всего Кудеслав ожидал подобного разговора.
— Помнишь, ты мне самой доверил ее выбирать?
— Ну… так разве же я от своего слова отказываюсь? — пробормотал Мечник, трогая наружную дверь (та отозвалась негромким коротким скрипом).
— Это я отказываюсь, — Векша длинно вздохнула. — Можешь выбирать любую — слова поперек не скажу. А только коли ты на эту вот, Жеженем сделанную, вздумаешь глаз положить — я удавлюсь, так и знай. А ремней себе на удавку нарежу из ее спины!
Горютина дочь, наверное, ждала, что ее слова подействуют на Мечника как-нибудь посильнее. Но тот лишь кивнул рассеянно, продолжая покачивать дверную створку. Когда они с Векшей выходили сюда, в сени, наружная дверь вроде как закрывалась. Померещилось? Сквозняк? Выметнулся подслушивавший — кто-то из Чарусиных присных? Что ж, может быть и кто-то из присных… Только вряд ли обычный простой человек успел бы сгинуть этак вот — почти совсем незаметно.
8
Осеннее увядание набросилось на лесную дебрь с каким-то разудалым запойным буйством — вдруг и разом на все что ни попадя. За три дня чаща выжелтела напрочь. Даже дубы, которые обычно упорней прочих деревьев держатся за летнее одеяние, уже щедро подкармливали ржавыми листьями стылый неприкаянный ветер.
Ветер.
Ровный, горестный, неутомимый. С тех пор как Мечник и те, кто увязался за ним, покинули Междуградье, ни на миг, ни на краткую долю мига не смолкал в редеющих кронах надоедливый сухой ропот.
Терзаемый ветром лес, мерное топотанье конских копыт по хрусткой листве, оглушительное шуршанье, которое с отвратительным торопливым злорадством предает самые легкие, самые скрадливые людские шаги…
Что можно расслышать во всем этом настырном, надоедливом шуме? Опасность ведь не окликнет, не повторит для прозевавшего…
Будто бы назло.
Будто нарочно.
Будто?
Уж не запамятовал ли ты, Кудеслав Мечник, кто нынче у тебя в супротивниках?
Может, и впрямь чары нездешних злых колдунов были тому виною, а может, и воля случая, но только все до самых мелких мелочей складывалось по-наихудшему.
Впрочем, подобные мысли неправильны и опасны.
Дурна норовом судьба человеческая, сварлива, обидчива, мстительна как-то безалаберно и несправедливо… Говорят, с глазами у ней неладно — именно потому она сплошь да рядом не замечает великие проступки, а за плевый никчемный частенько изводит вусмерть. Но всего вернее, что вздорность доли-судьбы объясняется проще простого: баба она, судьба-то, и все тут.
С особенною же злобой отмщается доля тем, кто на нее пеняет да ропщет. Вот лишь подумай, будто хуже, чем нынче, тебе уж не сможет сделаться — и судьба беспромедлительно расстарается доказать обратное. И ведь докажет!
Так-то.
Баба — она баба и есть.
Вот как Векша: вроде бы и не враг, вроде бы любит… Ох-хо-хо, именно что «вроде бы». Муторная опаска все никак не подохнет, все копошится в потайных глубинах души: не притворство ли эта любовь? Что ж, сомнение объяснимо. Слишком ты привык думать, будто не суждено тебе в жизни ничего подобного — вот и не можешь безоглядно верить в иное. И судьбе своей поверить не можешь: больно часто доля манила, раззадоривала тебя, а в самый последний миг… Тоже, кстати, бабья повадка.