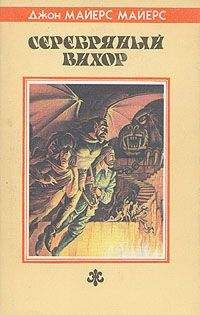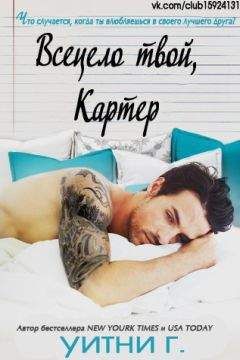Дмитрий Ахметшин - Туда, где седой монгол
— Да…тец, — пропыхтел второй. Части слов, не находя выхода наружу, валились обратно в его бесконечное горло. — Боюсь только, если она нас видит, то остаётся только запрягать ей в дальнюю…орогу одного из наших коней.
Керме не поняла слов, но услышала в голосе беспредельное уважение. И ей понравилось, что седого называют отцом.
— Она нас не видит. Дай лучше мне воды… нужно напоить страждущих. Хочешь пить?
Хрустнул валежник под ногами, прянули, словно испуганные мыши, за движением листья. Нет, этот худой. Под ногами полного человека земля хрустят по-другому. Керме почувствовала у себя на затылке руку, такую холодную, что только жалкие остатки сил, которые требовалось сберечь на дыхание и глотательные движения, помешали ей отдёрнуть голову. Жадно глотнула из поднесённой к губам фляжки. Такой вкусной воды она не пила никогда.
Керме размышляла: нет, всё-таки этот человек связан не из мягкой овечьей шерсти. Руки у него такие, какие могут быть только у воина. Даже у Ветра ладони помягче, хотя, казалось бы, кожу на них годами вытирал воздух разных стран, от жаркой Аравии до холодной Урусии.
Полный монгол остался у входа. Органы чувств доносили до Керме, как шевелится вокруг ног плащ, когда он двигает плечами. Кажется, он только теперь заметил её слепоту. Скрипнула под подошвами земля, он наклонился вперёд, разглядывая лицо.
— Как ты…обралась сюда? Я не видел ни лошади, ни проводников снаружи. Сороки рассказывают только об одном…еловеке, что поднялся на холм…амана. И как тебя зовут?
Керме растерялась. Она вдруг поняла, что перестала понимать, в каком шатре звучат голоса. Здесь ли, где она лежит на трухе и истлевших одеялах и чрево её кричит от боли так, как будто его режут ножом, или в том, что в её голове. Овцы там сгрудились у дальнего от входа полога, но с ними вместе был не страх, а ожидание чего-то светлого и прекрасного. С другой стороны, в тёмном углу у лошадиного трупа вместо хвоста выросла вторая голова. Там жужжали мухи, так пронзительно, будто у каждой было по визгливой флейте. От этого звука рухнули какие-то преграды в теле, и порция боли хлынула через горло в голову.
Девочка подавилась вдыхаемым воздухом. Сказала, делая паузы между словами:
— Меня зовут Керме.
— Тушкан, значит… слепой тушкан. Поведай же нам, как ты сюда попала?
— Мне показывали дорогу прожилки на листе. Я шла туда, куда тянулись корни сосен. Бежала следом за рекой. А когда я боялась, меня вёл за руку муж мой ветер.
— Ты на самом…еле очень храбрая, — скрипуче сказал полный. Он, должно быть, знал, какое впечатление оставляет голос у людей, поэтому старался говорить потише, но отдельные звуки всё равно получались громкими. — Наверное, в степи только и складывают песни, что о слепом тушкане, и в каждом аиле считают тебя своей дочерью, и гордых отцов наберётся несколько десятков. Зачем тебе был нужен тот старый кам? Я неплохо…ал его в свое время.
— Чтобы спасти моего маленького. Он умирает.
Керме кое-как села, и положила обе руки на живот, пытаясь ощутить ток крови. Седой чуть отодвинулся, но остался сидеть на корточках рядом.
— Ты больна? — спросил он.
Девушка дёрнула подбородком, и выбившиеся из косы волосы прилипли к влажным губам.
— Это его что-то грызёт изнутри. Зараза. Что-то вроде жабы сидит в его сердечке и дрыгает лапками. Но тут, конечно, виновата я.
Керме прекрасно умела чувствовать настроение овец. Они смотрели на пришельца с восторгом и обожанием, и, словно бы, с некой надеждой. Здесь, в её голове, он разулся — по-простому, наступая носками на пятки сапог.
А в настоящем шатре пусто. Тяжёлый животный запах, начисто обглоданные кости каких-то зверьков. Куча засохших экскрементов совсем недалеко. Все эти голоса ей мерещатся, — подумала Керме. Попыталась нащупать языком на губах хоть каплю воды, которой её недавно поили. — Может, белая змея, которая путешествует по её крови, уже убила малыша, проникла в голову, и вовсю развлекается, рисуя в её воображении несуществующих людей.
Знали бы ещё эти люди, что их не существует…
По шелесту шагов Керме поняла, что монгол прогулялся по шатру и присел на подушки для гостей. Конечно, в шатре в её голове были самые мягкие и самые душистые подушки, которые только можно вообразить. Всё там было ей по душе, кроме гниющего трупа лошади, и этих мух.
Длинношеий остался стоять на пороге. Он пыхтел себе под нос, видимо, оглядывая её обитель, и качал головой. Кто бы мог сказать, одобрительно, или же с укоризной.
Седой спросил:
— Может, ты простудилась? У тебя лицо степной дочери. Может, холодный горный воздух пришёлся тебе не по нраву?
— Я не знаю, — Керме чувствовала, как по щекам её катятся крупные слёзы. — Он больше не разговаривает со мной. Он забрался в свою нору со змеями и засыпал вход. Отрава не попадает больше в мою кровь, но и моя, чистая кровь, не может к нему пробиться. Я знаю, как ему больно. У меня болит всё так, будто муравейник злых муравьёв грызёт меня изнутри, но это лишь отголоски той боли, которую испытывает он.
— А раньше — …азговаривал? — в голосе длинношеего проснулось удивление. Правда, на какой-то краткий миг оно показалось Керме наигранным.
— Конечно, разговаривал. Ты, может быть, не знаешь, но все маленькие разговаривают со своими мамами.
На самом деле Керме была вовсе в этом не уверена. Но её вдруг стал раздражать этот толстяк, хотя она по-прежнему обращалась к нему с отчаянной надеждой. Ей больше не к кому было обратиться.
— И что же он тебе говорил? — спросил седой.
О нет, он никуда не прошёл, да и нет здесь никакой подушки для гостей. Останки заговоров и черепки давно минувших чудес, которые шаман когда-то водил за собой, словно послушных лошадей. Стоит здесь, рядом, брезгливо трогая носком сапога истлевшие ковры, смотрит на неё. Может быть, в задумчивости крутит между пальцами ус.
Керме рассказала о Растяпе, о том, как он впервые заговорил внутри неё. Когда она закончила, седой монгол повернулся к своему спутнику.
— Ты знаешь что-нибудь об этом?
Длинношеий издал горлом странный звук.
— Ну, я не уверен. Столько всего происходит в мире каждую секунду.
— Так подумай. Ты мой конь.
— Конь? — переспросила Керме и тут же обругала своё лезущее даже в самые отчаянные минуты наружу любопытство.
Однако седой монгол ответил благожелательно:
— Это мой небесный конь, конь с лебедиными крыльями, который разносит в клюве мои поручения по всем степям и приносит мне обратно новости. Какой народ погиб, какой раскололся на два народа. Где сдвинулась с места скала, где море вышло из берегов. Родились ли у козы в затерянном среди вечных снегов аиле козлятки. Когда кто-то взывает ко мне, перед ним, как верный страж, встаёт мой конь и пропускает ко мне, только если у того доброе сердце и чистые намерения.