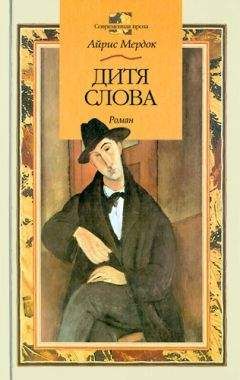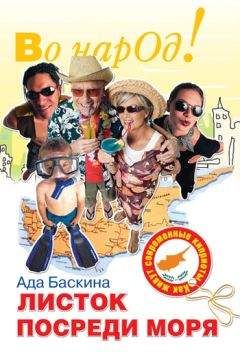Татьяна Мудрая - Паладины госпожи Франки
Потом как-то неожиданно в разговор вступила Мариам.
— Господин Френсис-Идрис, мы позвали вас, чтобы преподнести вам некий подарок. Теперь самое время.
И своими нежными ручками, крашенными хной, подала мне его.
То была тонкой работы шкатулочка. Дома я открыл ее. Странно! Какие-то полуистлевшие лоскуты, побуревшие и ссохшиеся тряпки. А в них — резец для работы по грубому камню, инструмент каменотеса, но не скульптора. Любопытно, хорошо ли он отточен, подумал я, и зачем он один. Должен быть набор — молотки, тесла, резцы для филигранной работы… Их немало завезли сюда в свое время, и стоят они теперь не так дорого, я сам знаю, где можно купить прямо-таки отменный инструмент, — нанизывал я в уме бусинки малых словес, чувствуя одновременно бездумную, звенящую и всё расширяющуюся пустоту внутри своей души, как бы приуготовление к тому, чтобы вместить в себя весь универсум. Так бывало со мной в давней юности, когда сладкий голос влек меня за дальнее море, и на клетках мраморного пола в доме моей госпожи. И теперь, как и тогда, лишь невесомая пленка отделяла меня от того, что являлось моей сутью.
Тут меня втряхнуло в обычное бытие, но я уже знал, что именно сделаю.
— Мне надо отлучиться по важному делу, — сказал я жене.
Она кротко глянула на меня.
— Надолго?
— Да не очень, наверное. Только ты напиши отцу или поезжай к нему сама с детьми — Дивэйн кстати посмотришь.
Уезжал я из столицы гор налегке, однако на всякий случай бросил в сундучок с инструментом маленькое, надбитое с одного краю зеркальце, подаренное мне — ясно, кем — в честь отъезда из Гэдойна. Взял себе и проводника из местных.
Путь наш пролегал заросшими горными тропами, теми, пожалуй, которыми шли через Лэн Франка со своими детьми. В знакомом месте проводник оставил меня одного и, благословив, двинулся в обратный путь.
У неприметного на первый взгляд отверстия в земле я выложил на землю зеркальце и стал ждать. Вроде бы кругом не было ни единой души, но ко мне почти тотчас же подошел человек в зеленовато-буром, похожий на лесного стрелка, и спросил:
— Что вам требуется от нас?
— Видеть магистра.
— Если он отбыл?
— Буду ждать прибытия. У меня нет иных дел.
Он ушел ненадолго, унеся с собою зеркало, потом воротился.
— Вы можете пройти. Там дальше лестница и факелы, вы не заблудитесь. Пропуск ваш я возвращаю.
Вот так просто!
Магистр, конечно же, никуда не делся, а пребывал в затворе. Персоны такого высокого ранга путешествуют крайне редко и не для собственного удовольствия. Скажем, ради далеко идущей политики или чтобы наставить своего преемника в духовных вопросах.
По сравнению с былыми денечками он посолиднел, жесты и позы обрели величие и некую закругленность, а голос рокотал, как прибой в южных морях. Парадное одеяние его, им же новоизобретенное: алая шелковая рубаха до пят, поверх нее — белая ряса из тончайшей замши и пурпурная мантия, капюшон которой был с глазницами, как у монахов-доминиканцев, — вызывало у меня какие-то не те ассоциации. Впрочем, зловещий клобук был сразу же отброшен на спину, так что его буйная, уже здорово с сединой, копна волос рассыпалась по плечам. Он был донельзя благолепен и великолепен, наш горный, лесной и пустынный владыка и архипастырь. И нахальный щен, жуткая помесь кенара и левретки, что с удобством устроился у него на коленях и время от времени по-свойски теребил зубками его нос или (верх собачьей наглости!) ухо, портил вид ну совсем ненамного.
— Вот, новую породу выводим, — произнес он вместо приветствия. — Каков цвет, а? Лимонно-палевый с прозеленью. А скорость! Знаете ли, господин Френсис-Идрис, на полном скаку даже зайца догоняет.
— Вот как. А что делает заяц?
Он задумался, чеша в потылице, и серьезно проговорил:
— Наверное, останавливается, оборачивается, глядит в глаза — а потом долго и громко смеется.
Посмеялись и мы — ото всей души.
— А с какой стати, собственно, мы на его счет прохаживаемся? — внезапно прервал он. — Есть разные псы. Собаки-сторожа, собаки-пастухи, собаки-охотники. Собаки-друзья. Но самые лучшие из них — вот такие. Которых любят невзирая на достоинства и недостоинства, просто потому, что они есть на свете… А катись-ка ты на место! Косточка где? Ищи косточку!
Последнее явно адресовалось не мне.
Потом мы помолчали, глядя на леврета, который «в яростном веселье» трепал свой коврик. Тут я, наконец, изложил свою идею.
— Ну что же, — пробасил он. — В Братстве сейчас смешались все конфессии, и никто не будет возражать, если со статуй Тергов снимут вуали. Только вы сумеете? Мастерство здесь нужно немалое.
— Сумею. Из любви к Идрису и Франке. Вообще во имя любви. Той Любви, которая позволяет человеку выпрямиться…
Мы некоторое время глядели друг на друга, не решаясь продолжить разговор и зная, что сделать это придется.
Затем я всё же осмелился.
— Из-за того давнего случая, о котором судачили втихомолку… Когда моего брата увезли его гябры, а позже и она исчезла из того самого склепа, только синий плащ остался… Словом, многие считают, что она вознеслась на небо, что она жива во плоти и прочее в этом духе. Вы ведь слышали такое?
Он печально и тонко усмехнулся.
— Протестанты весьма падки на чудеса, и им не приходит в голову, что нет в этом отношении большего скептика, чем добропорядочный католический поп.
— Так вы еще священник?
— А как же, сынок мой. От тиары освободиться — иное дело, нельзя допускать совмещения двух трудоемких должностей: но ни от одного обета меня никто еще не разрешал и разрешить не сможет. На редкость удобно: среди обитателей Дома почти треть католики. Нежелательно, чтобы здешние секреты уходили на сторону. Наш брат священник, конечно, хранит тайну исповеди, пока он в здравом уме и твердой памяти, но ведь и дьявол силен!
Меня малость покоробило от его речей; но то был всё-таки наш прежний папа-Лёвушка, скопище всевозможных добродетелей, недотепа, иронист и умница, и я с легкостью простил его как христианин христианина.
— Но что же тогда сталось с нашей герцогиней? — переспросил я.
— А вам не приходило в голову, что Идрисовы поклонники считали ее его подругой? И вполне могли украсть, чтобы похоронить их вместе по своему обряду. Так что теперь они оба либо обратились в пепел, либо лежат в какой-нибудь глубокой замурованной нише, а рядом текут подземные потоки.
Я ответил, что не верю его объяснению: удобное и логичное редко бывает истинным. Сам же он мне и проповедовал.
— Не верите — ваше дело. Что попишешь, деточка, все мы немножко лошади, каждый из нас по-своему лошадь. И вы. И я тоже. Во всяком случае, разрешение и отпущение… тьфу, впущение — я вам подпишу. И ордер на постой: тут есть весьма приличные кельи с чистым воздухом, сам сиживал и друзьям рекомендую. Да, а как супруга ваша, как детишки? Озаботиться о них, я думаю, потребно: вы же здесь увязнете, как пень в болоте, мой милый. Вот, дожил до вершины всех возможных карьер, а только и делаю, что, как прежде, с младенцами вожусь…