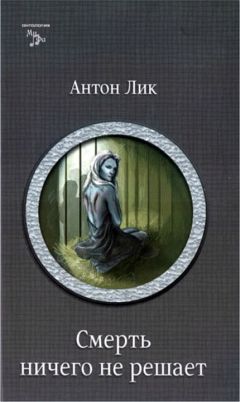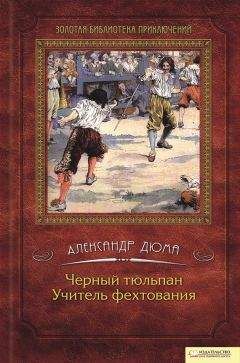Екатерина Лесина - Наират-2. Жизнь решает все
Живи, Туран, победитель кагана! Ради тех, кто ищет тебя и, пройдя первым быстрым ударом по городским улицам, теперь мелким ситом просеивает городскую пыль. Живи, знай, что они близко, что молятся Всевидящему во здравие твое и возрадуются премного, обнаружив тебя здесь. Они подарят тебе эман, они излечат раны, они дождутся пока ты, глупец, не станешь достаточно силен, чтобы можно было выставить тебя на площадь. А там… Новые лица ненависти. И платой за победу — новые раны, новая боль, бесконечная, как твоя агония, которая растянется на несколько дней.
Чьи это слова? Муравьиного льва? Победителя каганов? Тянутся-тянутся, растягиваются… Скорее бы упасть куда-нибудь, но только насовсем.
Качели. Вверх-вниз и снова вверх, со скрипом в костях-перекладинах, с мучительным трением о плоть веревок, сдирающих кожу… Не веревки — куски полотна. Присохли, вот и больно. Он успел наложить повязки? Когда? Туран не помнил, но, дотянувшись непослушной тяжелой рукой до перевязанной груди, убедился — не сон. Впервые убедился.
Руку сбросило с груди, уложив вдоль тела, голову приподняло, плеснув в слипшиеся глаза светом, а в рот вошла железная трубка. Очень тонкая, очень холодная трубка, разодравшая нёбо.
— Пей, — велел голос, и ослушаться было невозможно.
Туран позволял жидкости протекать в себя и удивлялся, как это она не выливается через дыры в теле? Их же много, дыр. Стрелы… А потом еще упал, кажется. Долго падал, и ветер свистел в прорехи халата. Или это уже во сне?
Взрез междубытия начал затягиваться: Туран перестал проваливаться в забытье. Постепенно возвращались силы, а с ними и чувства. Сначала слух: капли воды точат камень, падают, отмеряя время. Звонко. Шаги шелестят, когда быстро, сердито, когда медленно и устало. Сталью во рту обнаружился вкус — кровь из разодранной и все никак не заживающей десны. Известь на кончике языка, точно известь. Туран когда-то давно жевал толченый мел, чтобы зубы были белыми… А зубов-то слева и не осталось. Так пришло осязание. Твердое под спиной… Гладкий камень, только в поясницу упирается острый клык, но лучше его терпеть, потому что попытка пошевелиться обернулась новым приступом боли. И криком, который заткнула рука, тоже твердая и гладкая. Пахнет льняным маслом — обоняние выползало из пустоты. А вылезши окончательно, принесло с собой вонь гниющего мяса. Когда Туран понял, что это его собственный запах — открыл от ужаса глаза.
Потолок. Низкий там, где лежал Туран, дальше он поднимался горбом, роняя нити белой слюны, окаменевшие за давностью веков. Между ними осколки камня и клочья темноты, а в самом центре пещеры стол с желтоглазой лампой и табурет. Рядом ворох тряпья, заменявший постель человеку, которому Туран, видимо, и был обязан своим спасением.
Сейчас незнакомец расхаживал по пещере, добирался до черного провала-выхода и, заглянув в него, поворачивал назад, к другому такому же провалу. Шаги уже беззвучные: вернувшееся зрение лишило мир звуков и запахов, оставив от всего, обретенного Тураном, лишь неудобство каменного клыка. Того и гляди, раздерет шкуру, прокусит кость и выйдет из живота.
— Очнулся? — сухо спросил человек, и добавил: — Было бы несправедливо, если бы ты просто взял и умер.
Он был прав, мэтр Аттонио, знакомый и незнакомый, сменивший яркий кемзал на латанную куртку, поверх которой грязной тряпкой свисал старый плащ. Он был прав в том, что Туран не мог умереть.
Не мог, потому что победил!
Умирают проигравшие.
Счастья хватило ненадолго. Оно, нестойкое, выгорало вместе с маслом в стеклянном брюхе лампы, дымом вытекало в дыры пещер, стиралось на подошвах туфель молчаливого Аттонио, за все последующее время — день? два? десять? — не произнесшего ни слова. Он подходил, менял повязки, поил водой и полужидкой кашицей мерзостного вкуса и снова убирался в темноту. А заговорил только когда Туран, превозмогая боль и слабость, сам перевернулся на живот — какое наслаждение избавиться от клыка, натершего поясницу — а потом снова на спину, скатываясь с тонкого вонючего покрывала.
— Идиот, — мрачно заметил Аттонио, не сдвинувшись с места. Помогать он явно не собирался. — Тебе не стоит двигаться.
Это не было советом или проявлением заботы, скорее уж фактом, на который Туран, ободренный своим уже почти всесилием, не обратил внимания. Он попытался сесть.
— Швы разойдутся, а кровостопа у меня больше нет, — теперь Аттонио подошел, склонился, пристально вглядываясь в Тураново лицо, занемевшее и почти неощутимое, как и все тело. — И ты сдохнешь, что, в общем-то, логично, но не совсем справедливо.
— Пчмуу? — Первое произнесенное слово, показавшееся совершенным от понимания, что он, Туран ДжуШен, наконец, способен говорить.
И стихи, теперь он наверняка снова сможет писать стихи. Он свободен от Наирата!
— Потому, что смерть — слишком легко для тебя.
Толчок, камни, вцепившиеся в спину уже не одним клыком — десятками — и белые слюни-сталактиты целятся прямо в глаза. И это заставляет забыть о нелепом ответе. Легко? Разве смерть бывает легкой? Даже если быстрая? Интересно, а ясноокий Ырхыз, сумасшедший враг, быстро ли он умер? Захотелось, чтобы быстро. Теперь Туран мог позволить себе милосердие.
— Пей. — Горло фляги и горькая вода. Глоток за глотком. Хорошо.
— Тебе повезло. — Прикосновение пальцев на лице, на лбу и выше, потом по скуле, к носу — не болит, но почти не дышит — на щеку и вниз, к шее, на долю мгновенья прижимаясь к артерии. — Тебя могли сбить стрелой или копьем, достать мечом. Ты мог бы сорваться раньше, чем сцерх переберется через стену. Ты мог бы разбиться при падении. Но когда я, несчастный, оказался рядом, ты был жив.
Туран не помнил и потому слушал, старательно заполняя пустоту в голове этим рассказом.
— И это что-то значило. Кто я, чтобы перечить воле Всевидящего?
— Спсбо. — Свистят звуки через дыры в зубах, вылетают капельками слюны, которые заставляют Аттонио брезгливо отстраниться.
— Будь дело только во мне, я бы тебя добил. А потом бы помог наирцам содрать твою дырявую шкуру и собственноручно набивал бы ее опилками.
Голос был холоден и гладок, как каменный клык, но давил во много раз неприятнее.
— О чем ты вообще думал?
В тот раз Туран не сумел ответить, но через некоторое время — время молчания, темноты и внешних звуков, иногда доносившихся до их пещеры из глубины подземелий — разговор продолжился.
Теперь Туран уже мог сидеть, подложив под спину халат, который пусть и задубел от крови, но все же был приятнее камня. А к запахам тело притерпелось. Аттонио расположился напротив, уложив на колени неподвижное Кусечкино тело. В големе не осталось ни капли эмана, а без него — и жизни.