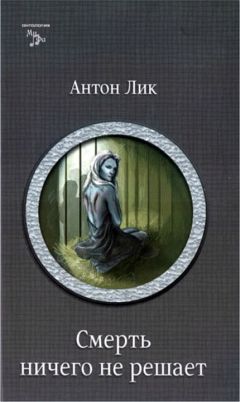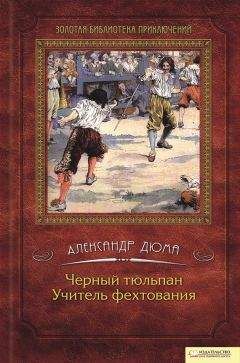Екатерина Лесина - Наират-2. Жизнь решает все
Богато будет жить Бельт Стошенский. Да только счастливо ли? О том Зарна старалась не думать.
А во дворе, выметенном, вымытом от чужой крови, убранном, сколь можно было убрать без хозяйского пригляду, уже ждал люд. Пятеро баб, мальчишка выхудлый да дед разбойнего виду. По прежним-то временам на этакую домину дворни впятеро было бы, а то и вдесятеро. Куда подевалися? Погибли под ударами коротких кривых мечей, навроде того, что лежит в хозяйских ножнах? Разбежались от беды, прихватив с собою добра, сколько выйдет? Затаились, выжидая, готовясь вернуться, если хозяин новый покажется?
Вот и показался. Спешившись, кинул поводья — подхватили — и сказал:
— Звать меня Бельт Стошенский. Отныне это мой дом. Кто не хочет жить под моей рукой, волен уйти. Кто хочет, должен будет служить верно мне и благородной Ярнаре из рода Сундаев.
Молча смотрели люди, не спешили ни бежать, ни кланяться — присматривались.
Скоро привыкнут. И к нему, и к девоньке, что, слава Всевидящему, от пережитого страху отходить начала. И к порядкам новым, и к жизни. Выбелят наново стены, выкорчуют пожженные деревья, высадят новые. Раскатают по полу ковры, уберут стены шелками и шпалерами, украсят оружием и головами звериными, рожками охотничьими да медальонами чеканными. Снова станет красиво в доме.
А прошлое… Забудется.
Зарна ошиблась. Прошлое показало зубы аккурат на третий день. Выбравшись из конюшни, вскарабкалось по тонкому плющу, что, опаленный, но живой, обвивал стены дома, нырнуло в комнату да ударило ножом Бельта Стошенского. Промахнулось. Полетело на стол, за которым ужинать сели, и скатилось на пол.
— Господин! — Управитель, входящий с тяжелым подносом, выронил его вместе с жареной курицей, кинулся помогать вязать. — Господин, простите, простите… не знали… мы не знали…
— Зарна, что это? — девонька схватилась за подлокотники кресла, завертела головой, пытаясь понять происходящее по звукам.
— Ничто, — ответил ей Бельт Стошенский, подходя к противнику. Легко отпихнул управителя, который все кланялся и клялся, что не виновен, и столь же легко поднял убийцу — сколько ему? шесть? семь? Вряд ли больше — за шиворот грязной рубахи. Так и вытянул из комнаты.
Убьет. Он же такой, он же палач — об этом вся Ханма знает. В нем же ни совести, ни жалости, ничего… Сам бездушный, вот и живет с безглазой. Проклятый. И она, Зарна, проклятая, раз служит такому.
Вернулись скоро. Выбелевший с лица мальчишка обеими руками держался за штаны и гордо драл подбородок вверх. Бельт сматывал с кулака ремень. Простецкий, не прокованный медью.
— Накорми, — велел он Зарне, а повернувшись к управителю, рявкнул: — Обыскать дом.
Еще двое сидели в малом погребе. Одногодки, но видать от разных жен: девочка светленькая, что одуванчиков пух, а мальчонка — чистый вороненок.
— Господин, — управитель подобрался бочком и зашептал. Зарна разобрала лишь некоторые словечки. — Нельзя… каган… повеление… за мятеж и предательство… весь род… под корень… во избежание злоумыслия…
— Заткнись.
Новый хозяин дернул шеей, точно шрам тянул, и снова бросил Зарне:
— Пригляди.
Она и приглядывала, целую седмицу пробиваясь через упрямое молчание, только чтоб добиться от старшего:
— Ит’тырбаңдай.
Не обиделась. Старая собака? Ну так точно не молодая она, и собака — тварь пользительная, а на чужую злость обижаться — глупство. Так она и сказала. А в скором времени в комнатушке, которую отвели ей и детям, объявился уважаемый Бельт и, кинув Зарне кошель с монетами, велел:
— Уходите.
Хотела спросить, почему, да смолчала — по лицу бледному и злому все стало ясно.
— Я никуда не поеду! — Мальчишка кубарем скатился с кровати. — Это мой дом! Я, Чаал-нане… Чаал-нойон! А ты найрум, собака, сидящая между камней! Ты не имеешь права так со мной! И я… Я тебя вызываю! Я…
— Ты заткнешься и будешь делать, что говорит Зарна, — очень тихо ответил Бельт. — Если хочешь, чтобы жил и ты, и вон они. Коль зовешься нойоном и хозяином, отвечай за то, что от рода осталось. А с вызовом… Сначала научись драться так, чтоб не приходилось бить в спину, тогда и встретимся.
За двадцать лет он научился, славный Чаал-нойон. Даже собрал целый сундук книг и освоил кхарнское письмо, чтобы прочесть знаменитое «О дуэлях и правилах, каковые способствуют сохранению чести», с трудом выкупленное у некоего Ниш-бака за баснословные деньги.
Правда встреча, ради которой Чаал жил, так никогда и не состоялась.
Триада 4.3 Туран
Сыны Отчизны, славные герои…
Первая строка «Восславим»Мы любим зеркала и любим себя в них. Мы радуемся тому, сколь удивительны и прекрасны, либо огорчаемся, спеша исправить случайное уродство пудрой и румянами. Но вряд ли кто задумывался о том, сколько в наших отражениях истинных нас. Кому нужно такое знание?
«О многообразии лжи», трактат, запрещенный в Кхарне.Счастлив.
Остальное не имеет значения, в том числе и прореха в плотной ткани мироздания, где он, Туран ДжуШен, еще существует. Невообразимо далеко скреблась мысль, что, быть может, уже совсем скоро существование закончится, но разве это важно?
Счастлив.
И, наконец-то, дома. Тянул руки, готовый принять каменную чашу, на дне которой драгоценностью из драгоценностей лежала Байшарра. И, не справившись с тяжестью, летел вниз, распахивая изрезанные крылья халата, а ветер, дикая свирель, свистел в прорехи:
— Здравствуй, Турааааан! Ты вернулся!
Смеялась Байшарра, раскатывая улицы-ковры, раскрываясь ставнями, встречая лицами. И вот уже, белыми кольями колонн окружена, медленно плывет Свободная площадь. Половодье камня. Вертится-вертится, крутится водоворотом… Заглубляется песчаной воронкой, а из нее уже ползет муравьиный лев, расставив черные жвала. Хлопают крылья-руки, пытаясь замедлить паденье. Возмущается разум, пытается обуздать ужас, а хитиновые челюсти хватают ногу. Зажимают. Рвут пополам.
Больно!
Туран кричит. Нет, только пытается, но влажная тряпка тотчас забивает рот. Зачем? За что?! Он же вернулся домой!
Сознание приходило и уходило, подобно волнам, рисующим на песке все новые и новые картинки. Лица, которых Туран не помнил, слова, произнесенные не им. Иногда стихи. Их он силился запечатлеть, но терял ритм и целые фразы, меняя до неузнаваемости смысл, и быстро забывал.
Было очень больно. А еще — страшно в редкие мгновенья полной ясности, когда изломанное тело стонало о страданиях своих, а ужас, загнанный в далекие норы, выползал, нашептывая о том, что нынешняя боль ничто по сравнению с той, которая грядет.