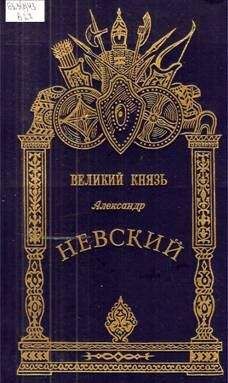Дана Арнаутова - Год некроманта. Ворон и ветвь
— Он должен был знать, куда подевался сын, — подумав, сделал вывод Каприччиола. — Если жена сумела обмануть призыв крови, муж тоже мог утаить что-то. И тогда ему оставалось либо бежать, либо унести тайну с собой в могилу. Значит, младший Энидвейт — все, что осталось от рода?
— Верно. И Бринар добился своего. Он представил закладную и отсудил ленные земли Энидвейтов. Кроме замка, разумеется.
Арсений неодобрительно покачал головой.
— Тюремщик-насильник, проверка, не выявившая ведьму, и паладин-неумеха… Что у них там творилось дюжину лет назад — один Свет знает! Замок, кстати, слова доброго не стоит, да и слава у него теперь — сами понимаете. Его даже не разграбили толком, и, говорят, призрак рыцаря является…
— Да воссияет Свет и рассеется Тьма благодатью Его, — проговорил Игнаций, осеняя себя стрелой в круге. — Пейте, брат Арсений. Вы проделали долгий путь, устали и замерзли. В такой вечер следует греться изнутри не меньше, чем снаружи.
— Спешил, как мог, — подтвердил Каприччиола, прихлебывая из стакана: — Доброе вино, отец мой, да пойдет оно во здравие. Уверен, младший Энидвейт, что пропал тогда — и есть Грель Ворон. Старые монахи говорят, что и отец, и сын были как раз такой масти: чернявые и носатые, что здесь редкость. Да и замок зовется Воронье Гнездо…
— Воистину гнездо, — уронил Игнаций. — Гнездо мерзости и порока. Что ж, если вы правы, то одной старой загадкой меньше, брат Арсений. Грель Энидвейт навещал родовой замок и решил отомстить Бринару хотя бы посмертно, лишив законного наследника. Любопытно, Грель — это настоящее имя?
— Представьте себе, никто не помнит, — хмуро откликнулся Каприччиола. — И записей в церковной книге рождений и смертей нет — я проверил. Аккуратно так страница вырезана, а настоятель клянется, что никто этого не заметил. Старого Энидвейта звали Гуго, а вот молодого… Возможно, в геральдических книгах герцогства найдутся следы?
Он развел руками, подчеркивая свое бессилие, и Игнаций вздохнул:
— Жаль. Но вы и без того великолепно поработали, брат Арсений. Когда подходит срок Бринар?
— В начале квинтуса, как она сказала. Иных прямых наследников у барона нет, только она и дети, но вдова клянется, что ноги ее больше не будет в том проклятом месте. Пока что семья в монастыре под присмотром, но я велел обращаться с ними заботливо и со всем возможным бережением…
— Все верно, — кивнул Игнаций. — Благодарю вас за рвение, брат мой, идите отдыхайте. Продолжим завтра, если будет на то воля Света.
— Да будет воля его, — склонил голову Каприччиола, поднявшись из кресла и почтительно склоняясь над протянутой ему рукой, чтобы поцеловать перстень. Тепло и горячее вино после долгой и трудной дороги явно разморили отца-инквирера, и хоть он все еще крепко держался на ногах, дальнейший разговор был бы бесполезным и мучительным.
Когда за отцом Арсением закрылась дверь, Игнаций еще немного посидел, собираясь с мыслями, потом снова позвонил в колокольчик и велел вызвать к нему трех курьеров. Торопливо написал запросы в архив инквизиторского капитула герцогства Альбан, в главный столичный архив Инквизиториума и архив Королевского Суда. Во всех трех запросах содержались поручения собрать и в кратчайшее время предоставить все сведения за год 1206 от пришествия Света Истинного. Все судебные дела и приговоры, случаи пропажи или убийства служителей церкви или судебной палаты, слухи и сплетни, донесения агентов… Секретность и скорость — высочайшие.
Поворошив угли, Игнаций поставил на решетку ковшик с сургучом. Подумал, не взять ли привезенные Каприччиолой выписки из монастырских хроник — вон пакет на столе. Нет, это вполне подождет до утра. Но где же последний Энидвейт скрывался почти десять лет? Ведь о некроманте Вороне стало известно не так уж давно. Года два-три, не больше. А обучение малефика такого уровня требует средств: редких книг, зелий и, главное, наставника. Некроманты же, благодарение Свету Истинному, появляются нечасто. Внутри снова заныло тупой болью подавленного желания и мерзостно-сладкого ужаса…
Отдав запечатанные листы запросов курьерам и велев отправляться немедленно, Игнаций устало опустился в кресло, подумал, что до рассвета еще успеет поспать несколько часов. И что сегодня он похож на рыбака, черпающего сетью в надежде выловить драгоценный улов там, где его может вовсе и не быть. Но пока есть рыбак и сеть — всегда есть и надежда на улов.
2.Западная часть герцогства Альбан, баронство Бринар, монастырь святого Матилина, 29 число месяца ундецимуса 1218 года от Пришествия Света Истинного
Под окном снова завыла собака. Глупая мелкая пустолайка уже три ночи будила Женевьеву сначала тоненьким поскуливаньем, потом принималась подвывать все громче и тоскливее, пока не срывалась в отчаянное рыданье. Ей откликался басовитый лай матерого кобеля, сторожившего монастырскую конюшню, тому — рыжая шавка отца-настоятеля, и начинался обычный ночной перелай. Только вот… Первая собака все-таки не лаяла, а выла. И Женевьева лежала в постели, сжимая пальцы в кулаки и снова разжимая их. Ей хотелось встать, выйти из щедро натопленной кельи в ледяную ночную тьму и… Что сделать? Она и сама не знала. Собака не виновата, что вещует несчастье. А может, и не будет ничего плохого? Дурная псинка, совсем молоденькая — Женевьева видела ее днем: серая остроносая сучка грелась на скупом осеннем солнце, выкусывала блох из тощей шубки. Откуда такой что-то знать?
Так она уговаривала себя уже четвертую ночь подряд. И в прошлые ночи это вполне удавалось, а потом она засыпала тревожным, но вовсе не из-за глупой приметы, сном. Просто Энни так и не переставала кашлять, и с каждым днем ее кашель становился все более хриплым и надсадным, а в груди что-то клокотало и скрипело при вдохе. Пожилой монах-травник, пользовавший ее, приносил темные сладковатые и светлые горькие настои, заставлял пить растопленный в молоке жир и есть мед прямо из сот, жуя и сплевывая комочки рыже-серого воска. Энни слушалась беспрекословно: пила, жевала, подставляла грудь под растирания все тем же жиром и огненной мазью из драгоценного перца, от которой даже у Женевьевы горели ладони. После мази у Энни из глаз лились слезы, но она мужественно терпела и даже пыталась уверять, что ей не больно, нет, вот совсем-совсем не больно — вы только быстрее помойте руки, матушка…
И Женевьева улыбалась вместе со своей бедной храброй девочкой, хотя хотелось плакать и в бессилии колотить руками в стены кельи, спрашивая неизвестно у кого: «За что? Почему и за что это ей, моей дочери, такой доброй и благочестивой, послушной и любящей».