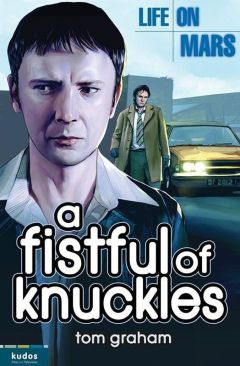Татьяна Мудрая - Карнавальная месса
— Это сейчас почти ни во что не ставится, малыш, — говаривал папочка. — Обходится в сущие пустяки. Еда дороже, А уж медицинские препараты и тонкие химические технологии для моих опытов…
Ладно, это все было терпимо, да вот моей будущей маменьке почему-то приспичило размножиться: для-ради то ли моды, то ли респектабельности. А поскольку папенька наотрез и категорически отказался принять участие в эскападе, связанной с моим зачатием, заявив, что пускай-де другие из его рода-племени усердствуют на чуждом для него поприще, а он подписал платонический брачный договор и обязан его соблюдать, — постольку я возник в некоей пробирке (автор пожелал остаться неизвестным) и чуть позже был водворен на свое законное место хирургическим путем. Впрочем, далее все происходило рутинным и старозаветным путем, и роды происходили без малейшей изюминки — даже не в воду.
Как ни странно, и детство у меня было вполне заурядное: я имею в виду — такое, как в старых книжках про маленьких леди и маленьких джентльменов, юного лорда Фаунтлероя и Ути, сына Белой Тучки. Лет до пяти я рос и развивался в домашних условиях. Благодаря стараниям папаши в нашей пятикомнатной халупе поддерживался кружевной уют и вопиющая медицинская стерильность. Сам он был тоже чистюля жуткий: псарней и виварием от него, положим, временами наносило, однако ненавязчиво и на очень короткое время — пока до ванной не добежит. Зато мать вечно сопровождал крепкий аромат конского и ее собственного пота, кожи, дыма, морковки, яблок, дегтя и скипидара. После своих тренировок она врывалась в дом под старомодный малиновый звон шпор и звяканье трензелей, кожаный скрип тяжелой сбруи и небрежный контральтовый напев «Мимолетного вальса». Ее голос наполнял квартиру, как море — раковину: трепетали стеклянные бомбошки на люстре, позвякивали фарфоровые статуэтки на серванте, гулко отзывалась им антикварная бронза на каминной полке. Вихрь от ее сквозного движения проходил, шевеля парчовые занавеси окон и дверных проемов, вздымая оборки на мебельных чехлах, которые вышивал болгарским крестом сам папочка. Он собственнолично выплывал ей навстречу в фартучке брюссельского кружева, волоча за собою шлейф изысканнейших кухонных запахов.
— Душа моя Мирьям, — произносил он, — сегодня на ужин отварной рис с кэрри и цыпленок а-ля Тибет: соя с косточками из побегов молодого бамбука.
— Ладно, давай сюда свою буддийскую имитацию. Детеныш хотя бы сносно кормлен?
Кстати, я в обиде не оставался сроду — мел все подчистую, едва успевая спрашивать, что почем и откуда. Любимым же блюдом матери было все равно что из кастрюльки, сидя на диване с музыкальным микро-Пентиумом в одном ухе; соус был книжно-журнальный. Делать менее двух дел зараз она попросту не умела: нянчила меня и то за компанию с каким-нибудь шорным или скорняжным ремеслом. Устроившись на ее обтянутых ковбойским рядном коленях, я наблюдал, как она ковыряет шилом ремень, плетет из тонких ремешков недоуздок или чистит поясную пряжку пастой. Время от времени на нее «находило»: она хватала меня на руки и поднимала к потолку, кружась и напевая. Руки у нее были крепкие, шероховатые и не больно-то ласковые, но в них чувствовалась редкая надежность. Как помню, в них я ни разу не запищал.
Ну вот, хотя оба моих родителя были чудики каждый на свой манер, в одной странности они сходились: любили притаскивать домой и читать мне на сон грядущий всякие стихи, сказки и фантазки. Законом это прямо не воспрещалось, но было официально объявлено признаком дурного тона. Компьютерные игрушки были куда изящнее этих топорных бумажных изделий, только вот я почему-то…
Ладно. Такая идиллия тянулась, как я сказал, лет пять, от силы шесть; пока, наконец, матери не надоело спотыкаться о мебельные углы, крушить марочный фарфор и пробираться через хрустальные заросли с риском обломить веточку. А, может статься, ей так же наскучил суррогат семейной жизни, как ее зрителям вольтижировка. Словом, она исчезла без особых слез и воздыханий, а папаша, как и все папаши во всем мире, сплавил меня в колледж-интернат.
Было мне там неплохо, во всяком случае, попросторнее, чем дома, но как-то пусто и безразлично. В памяти остались светлые стены с широкими окнами, высоченные потолки, серо-буро-малиновая масса моих сверстников, алчущих знания как единственного развлечения в жизни, и тихие голоса микродинамиков, выдающих это знание без перерыва на еду, сон и пребывание в ватерклозете. Набили они меня этой информацией за двенадцать лет так, что впору было лопнуть, и мозги мои от этого малость приувяли. Только в них и зацепилось, что давние мамины потешки.
Единственной отдушиной во всем этом были папашины воскресные обеды для сослуживцев, на которых кормили вкусно и много, а говорили — не так уже, зато о всяких животных экспериментах. Слава Богу, их объекты не попадали нам на стол ни в тушеном, ни в жареном виде, но на всякий случай я произвел себя в сугубые вегетарианцы. Это далось мне непросто — аппетит у меня в мальчишках был здоровый.
Иногда после обеда Дэнов кагал выводил меня на прогулку в зимний сад, который цвел и прозябал в той же извечной стеклянной оранжерее. Только это дело скоро накрылось. Благодаря неясной игре случая я как две капли воды походил на папашу всем, кроме лысины, и сходство это экстраполировалось в необозримое будущее. Так что мужние жены и все прочие мегаполисменки постоянно приставали к отцу, желая получить хорошенького ребеночка живцом, что в тот великосветский сезон считалось особым сексуальным шиком.
В конце концов папаша занял круговую оборону и окопал себя траншеями. Попросил, чтобы я звал его не «папа», а «Дэн» (его полное имя было Даниил) и прекратил меня экспонировать и афишировать. Так что каждый из нас гулял сам по себе. Тем не менее пронырливые однокашники уже вовсю называли меня «Джош-Сын-Своего-Отца», а в армии, куда меня забрили прямо с порога интерната, это прозвище прилипло ко мне намертво. Иначе как папенькиным сынком меня никто не звал и не пытался, даже офицеры, не говоря о штатских: к тому времени смысл был уже несколько деформирован. К слову, служил я не хуже иных прочих, а войска были не какие-нибудь, а десантные, элита, и вульгарного пушечного мяса не производили. Только вот всех граждан, которые платили налог на армию, раздражало, что широкомасштабной практике наши умения не подвергались: так, оцепишь район и ждешь, пока Бдительные сделают там черную работу. Вот и отводили душу за счет нашего брата.
Вернулся я через три года уже не один, а в паре с Дюрандалью (сокращенно — Дюранда или Дюрра). Лапочка моя была армейской амфибией экспериментального образца и потому походила не на защитного цвета утюг или армейский говнодав без шнуровки, с задранным кверху носком, а на каплю серебристой росы. Лакомый кусочек и досталась мне по большому и хорошему знакомству. Списали ее, так и не допустив в серию, всего-навсего из-за чрезмерной самостоятельности бортового компьютера, который ни в какую не желал синхронизироваться с Сетью, особенно что касается боевых команд. Но мне на это было начхать; я пользовался им вместо автопилота и чтобы жарить яичницу. В остальном моя любимая была супер-супер: крутобокая красотка с низким прозрачным куполом крыши, который по совместительству служил солярной батареей, но мог и убираться назад, на толстенных двухкамерных колесах, которые сами уходили ей в брюхо при скоростной езде или когда я загонял ее в воду. Были при ней и мощные аккумуляторы, в которые батарея нагоняла свет ясного дня, и аптечка запчастей: ее я за все время даже не тронул, механизм был по сути безотказный.