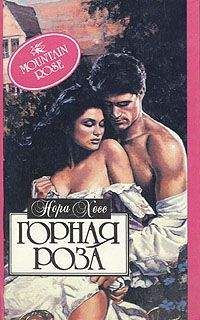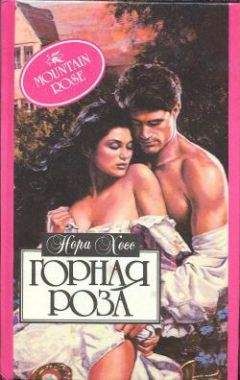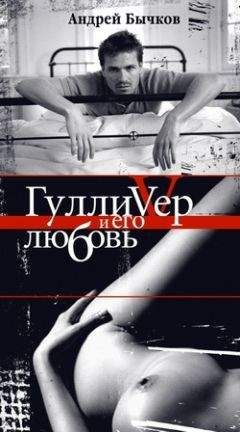Андрей Столяров - Сад и канал
И, наконец, был еще один, заключительный эпизод, вроде бы расставивший все по своим местам. Это произошло в субботу, которая уже давно стала для нас рабочим днем. Около одиннадцати утра мне позвонила жена и напомнила, что сегодня мы приглашены к дяде Пане.
– Уже два раза переносили, больше неудобно, – подчеркнула она.
Это сообщение, честно говоря, меня не обрадовало. Ни к какому-такому дяде Пане мне идти, естественно, не хотелось. Какой-такой может быть в эти дни дядя Паня?
Тем не менее, я для простоты ответил:
– Ладно, – и бросил трубку.
Мы, как всегда, были в легкой запарке. Помнится, мне как раз в эту минуту принесли очередную сводку. Если можно было верить данным, собранным за последнее время, то и длительность, и частота «явлений» несколько увеличилась. Теперь они происходили, как правило, раз в неделю, продолжаясь не меньше часа и группируясь по-прежнему исключительно в старой части города. На рабочих картах она была обозначена как исторический центр. Так же, видимо, возросла и интенсивность событий. Все опрашиваемые давали примерно одну и ту же картину. Начиналось это обычно глубокой ночью. Человек просыпался и неожиданно осознавал, что находится в какой-то ужасной клетке. Или, например, в камере с толстыми бетонными стенами. Или – глубоко под землей, откуда уже не слышны никакие звуки. Здесь обычно существовали некоторые мелкие разночтения. Однако участники всех «явлений» были согласны между собой в одном: ощущение тесноты, и одновременно – безудержный панический страх. Будто медленно, но неотвратимо приближается к ним нечто чудовищное. Шагов, правда, не слышно, только иногда – прерывистые звериные хрипы дыхания. Мало кому удавалось преодолеть этот страх. Люди опрометью выбегали на улицу, падали, расшибались, ломали себе руки и ноги. Было пять или шесть достоверных случаев, когда захваченные «явлением» просто выбрасывались из окон. Четыре смерти, двух человек каким-то образом удалось все же вытащить. В общем – кошмары, паника, массовый приступ клаустрофобии.
Правда, значимость этих данных была пока относительно невелика. Их еще было надо сопоставить друг с другом, свести в таблицы, тщательно проанализировать. Всю первую половину дня я занимался именно этим, и всю первую половину дня я настойчиво, но крайне осторожно наблюдал за Лелей Морошиной. Неужели она и в самом деле продает нас военным? Я пока не осмелился передать кому-либо слова Лени Курица. И, кстати, вовсе не потому, что я ему, например, не верил. Я как раз ему верил, но у меня все-таки были какие-то мучительные сомнения. Так, в конце концов, можно обвинить любого. Нет ничего проще, чем так вот, на словах, взять и обвинить человека. И что потом? Как потом с этим человеком общаться? Я, во всяком случае, общаться с таким человеком уже бы не смог. Вот почему я не спешил обнародовать это ужасное обвинение. Да и Леля Морошина вела себя в этот день очень естественно: ничуть не смущалась, когда я на нее украдкой поглядывал, улыбалась, перекладывала с места на место бумаги, склонив голову, что-то вносила, наверное, в отчетную документацию. Она нисколько не походила на тайного осведомителя. В общем, здесь я пока еще ничего не решил. Только мучился, пытаясь сосредоточиться на своей работе. И чем больше я мучился, тем, разумеется, хуже все это двигалось. Так я и промучился до обеда, практически ничего не сделав.
А в обед меня неожиданно вызвали в отдел кадров, и Степан Степаныч, наш кадровик, сразу же повел себя как-то странно. Руки он мне не подал, хотя до этого здоровался регулярно, как на пружинах, вскочил, одернул свой знаменитый по всему департаменту зеленый сталинский френч, посмотрел на меня, будто видел впервые в жизни, и казенным голосом проскрипел, что вот тут с тобой хотят побеседовать… м-м-м… два товарища…
– Какие еще товарищи? – спросил я несколько удивленно.
Однако Степан Степаныч только значительно пожевал губами:
– Отнесись, пожалуйста… м-м-м… серьезно. Что это ты, как на пляже?.. М-м-м… Застегнись!
Он явно имел в виду мой пиджак.
Под его неодобрительным взглядом я неловко застегнул пуговицы. Лишь после этого кадровик открыл вторую, так называемую «секретную» дверь, обитую листовым железом, и я очутился в крохотной на три стула, сильно прокуренной комнатке, где у зарешеченного, будто в тюрьме окна, к тому еще наполовину зашторенного, заполняя собой почти все пространство, сидели двое человека. Оба были в военных кителях, но без фуражек, которые козырьками друг к другу покоились сейчас на сейфе, оба – раскрасневшиеся от жары, лоснящиеся, точно покрытые жидким лаком, об – грузные и, вероятно, сделанные по одной заготовке: генерал-лейтенант Харлампиев и генерал-лейтенант Блинов.
Ничего подобного я, разумеется, не ожидал.
Зато они, казалось, только на меня и рассчитывали.
– Николай Александрович?.. – генерал-лейтенант Харлампиев даже слегка приподнялся. – Извините, что так оторвали вас, без предупреждения, буквально на несколько слов. Да вы присаживайтесь, присаживайтесь, пожалуйста!.. – Он мотнул тяжеленными низкими, как у бульдога, щеками. – Все в порядке, Гриднюк, можешь идти!
Кадровик глухо щелкнул начищенными ботинками и развернулся.
– Так присаживайтесь, Николай Александрович… Простите, запамятовал, вы, кажется, курите?
Тут же появилась откуда-то пачка импортных сигарет, а из другого «откуда-то» – широкая хрустальная пепельница. Судя по количеству скопившихся там окурков, они находились здесь уже довольно давно.
Все это мне чрезвычайно не нравилось.
– Слушаю вас, Игнат Трофимович, – сказал я с некоторой запинкой. Я не сразу вспомнил, как генерала Харлампиева по имени-отчеству. Затем сел напротив и положил ногу на ногу. Сигареты и пепельницу я сразу же отодвинул подальше. Я таким образом хотел продемонстрировать свою независимость. – Пожалуйста, я готов ответить на ваши вопросы.
Генерал Харлампиев несколько принужденно засмеялся.
– Только не подумайте, Николай Александрович, что мы хотим получить от вас какие-нибудь неофициальные сведения. Если бы нам вдруг потребовались данные о работе вашей Комиссии, мы тогда, как и положено, обратились бы к товарищу Половинину. Впрочем, я не думаю, что Комиссия скрывает от нас что-нибудь существенное. А с товарищем Половининым у нас хорошие, я бы даже сказал, дружеские отношения. В конце концов, мы все делаем общее дело…
Он как-то неуверенно посмотрел на генерала Блинова, и генерал Блинов, привалившийся к сейфу, в свою очередь, благожелательно посмеялся:
– Ну, разумеется, разумеется…
– Что конкретно вы от меня хотите? – спросил я.
Некоторое время генерал Харлампиев, убрав улыбку, задумчиво взирал на меня, а потом откинулся так, что лампа свисающая с потолка, очутилась у него над затылком. Она, оказывается, была зажжена, и красноватый блеск скользнул по крепкой генеральской прическе. Я и не замечал до сих пор, что генерал Харлампиев у нас – рыжий.