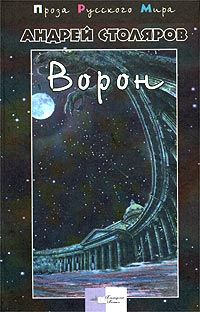Андрей Столяров - Ворон
Главное, я не понимал, чего он хочет.
Целыми днями Антиох, как проклятый, стучал на машинке – громыхающем металлическими суставами монстре, ровеснике, вероятно, еще первых автомобилей. Тысячи шелестящих страниц, забитых подслеповатым шрифтом, усеивали квартиру. Время от времени он собирал их в толстенные кипы, укладывал в папки и перевязывал крепким шпагатом. Папки затем пылились на полках или просто – наваленные в углу комнаты. Я ни разу не видел, чтобы Антиох развязал хотя бы одну из них. По-моему, он про них немедленно забывал. Кроме того, он прочитывал чертову уйму книг. Иногда читал сутками напролет, забывая. По-видимому, о сне, отдыхе и еде. Проглатывал их штук по пятьдесят в месяц. В основном, беллетристика, но также – философия, критика, теория литературы, лингвистика, матанализ. Я просто не понимал, чем обусловлен его выбор. Сегодня он, например, читает «Золотую ветвь» Фрейзера, а завтра – уже «Гравитацию» Линна, Макартура и Уилсона. Сегодня «Как перестать беспокоиться и начать жить», а завтра – «Самосознание европейской культуры XX века». Причем, как из одного, так и из другого он делал длинные выписки, и потом эти полоски бумаги также катались и шелестели по всей квартире. Такой образ жизни. Это, конечно, не может не отразиться. Антиох отпустил волосы, и они, как у женщины, свисали ему на плечи. От бессонницы и, вероятно, от недоедания он истаял, нехорошо пожелтел и стал походить на схимника. Глаза двумя черными углями высверкивали на костяном лице. Он уже ни мгновения не мог оставаться на месте: вскакивал, убегал, возвращался, паучьими цепкими пальцами извлекал книги из жутких развалов, буквально за считанные минуты высасывал их содержание, ронял после на пол, длинными безостановочными шагами снова прошивал комнаты. И все время говорил, говорил, говорил – пузырились губы, брызгали во все стороны странные, оборванные на половине мысли и фразы. Ничего было не понять в этом непрекращающемся монологе. Точно жестокий, невидимый глазу огонь изнурял его, не давая ни секунды покоя, и чем дольше пылал этот жутковатый огонь, тем все меньше и меньше оставалось от человеческой оболочки. Слова слипались в косноязычный бред, как будто их было больше, чем он успевал высказать.
Любопытно, что Антиох даже не делал попытки где-нибудь напечататься. Он не предлагал своих произведений издательствам и не посылал их в журналы. По-моему, эта мысль просто не приходила ему в голову. Впрочем, если бы такая попытка и была им предпринята, я не думаю, чтоб она принесла хоть какие-нибудь результаты. Дело в том, что Антиох писал какую-то очень странную прозу. Все, что он создавал, не имело ни формы, ни сколько-нибудь внятного содержания. Сплошной текст – без сюжета, без диалога и персонажей. Речь в себе, которая непонятно где начиналась и где заканчивалась. Там не было даже обыкновенных абзацев. Просто сотни страниц, забитых аккуратными черными строчками.
Это невозможно было читать. Фразы слипались, будто в толкучке, наслаивались и перебивали друг друга. Знаки препинания, как правило, блистали полным отсутствием. Антиох, видимо, не обращал внимания на подобные мелочи. Смысл едва брезжил, где-то очень смутно, за текстом. Иногда казалось, еще минута, вот-вот, еще буквально несколько строк, еще одно усилие и, наконец, уловишь, о чем, собственно, речь: спадет с глаз пелена, зажгутся софиты и разноцветными лучами своими озарят чудесный кукольный мир, задвигаются фигуры, послышатся тихие голоса, словесный театр оживет, чтобы дать захватывающее представление. Однако никакие усилия не помогали, тьма сгущалась, язык ворочался в тине деепричастий и придаточных предложений, софиты в кукольном театрике не загорались, и постепенно я потерял всякую надежду понять здесь хоть что-нибудь.
В общем, я довольно быстро разуверился в Антиохе. Так, по-моему, не работают. Все-таки, результат важнее процесса. Новая суть не рождается – так вот, случайно, из хаоса мутной пены, напротив, она концентрируется постепенно, чтобы потом как звезда внезапно вспыхнуть на небосклоне.
Я примерно так думал в то время.
А к тому же была еще и Ольга, плывущая в сумерках громадной петербургской квартиры. Дважды она мне снилась, колеблясь, словно отражение в лунной воде, и дважды я просыпался разбитый и без малейшего желания жить дальше.
Так она на меня удивительно действовала.
Вот почему, бесцельно чертя сухое, выжженное июньским огнем, безжизненное дно города, загребая ногами вялые листья, как шелуха, ссыпающиеся с деревьев, часами, будто сомнамбула, простаивая на гнутых, каменных или деревянных мостиках через каналы, я потом неизменно, как маятник, влекомый путами тяготения, возвращался сюда – где напротив острова, обнесенного по берегам крепостной тусклой стеной, громоздился причудливый дом, украшенный лепкой и крохотными балкончиками, где изнемогали от зноя разлапистые деревья на набережной и где семь распахнутых окон на втором этаже глотали белую тополиную горечь.
Волосы у меня за эти дни выгорели до льняной желтизны, натянулась на лице кожа, перед глазами сталкивались радужные круги. Я очень плохо понимал – где я и кто. Словно навсегда потерялся на вылощенных дымных проспектах, в асфальтовых испарениях, смазывающих перспективу, в громоздких, бурых и серых наплывах раскаленного камня. Гигантской каруселью вращался вокруг меня город. Сияли куполами соборы. Летел жаркий пух, вскипая вихрями на перекрестках. Памятники неизвестно кому недоуменно таращились мне вслед. Бухала в полдень пушка. Звенела по булыжнику бронза конских копыт. Солнце, проникая под череп, делало черноту мозга горячей. Я уже не мог отличить вымысел от реальности. И весь этот невозможный блеск, назойливое мерцание душной воды, шпиц Адмиралтейства, изъязвленный серый гранит, стиснувший улицы, вздутые простыни площадей, зевы парадных и подворотен, – все это сливалось в утомительный до головной боли, слепящий и медленный круговорот, в вечность, из которой не было иного выхода, кроме смерти, в загадочное и обманчивое видение странного мира, которое зыбким своим миражом, пыльным горящим воздухом, пространством солнца и камня, неумолимо, мгновение за мгновением, впитывало разум, впитывало жизнь и не оставляло взамен ничего, кроме тоски и беспощадного света.
Глава четвертая
Далее события развивались так.
Где-то дня через три мне неожиданно позвонила Ольга и, по-моему, даже не поздоровавшись, сообщила, что нам надо поговорить.
Кажется, голос у нее был тревожный.
– Когда угодно, – сдержанно ответил я.
Она замолчала, будто перерезали провода.
– Алло! – не выдержав, закричал я. – Ты меня слышишь?