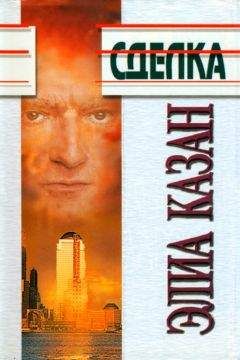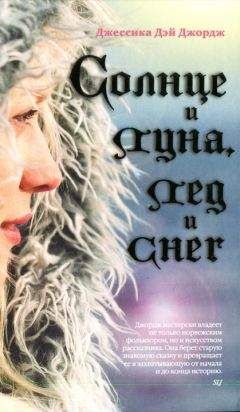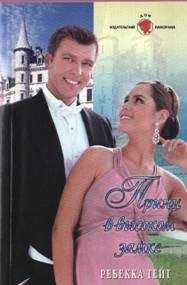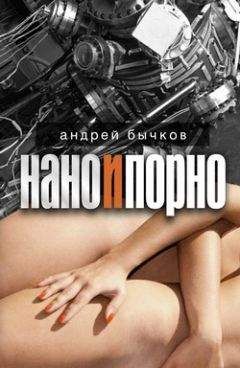Рихтер - Хроники Торинода: вор, принц и воин
– Глупость, – сказал Кларенс, узнав об этом, – Легче украсть ключи у Вара, чем идти напролом, не зная куда.
Сидели они в одном из трактиров города, шумном и многоголосном. Элиа поднял измученные глаза, но ничего не произнес. Ольг и неторопливо евший жареную птицу Ивэн, переглянулись понимающе.
– Скажи мне, друг бродяга, – издалека начал тан, – А трудно это вообще, украсть какую-либо вещь, чтобы ее обладатель не заметил пропажи?
Кларенс, сосредоточенно доедающий вторую тарелку супа, ловушки не заметил.
– Ну, не так уж и трудно. Взяли бы у Вара ключи, взамен подсунули ему похожие, но не те…какие-нибудь, неважно какие, а пока он с ними возится, вытащили бы из тюрьмы этого Колина – и дел-то! И сразу в леса, пока не хватились.
Элиа, заметивший хищный взгляд Ивэна, вздрогнул. Капкан для Кларенса, он, в отличии от последнего, заметил сразу же.
– Кларенс, – прямо начал Ольг, – Ты, конечно, можешь обидеться, и даже прав будешь…наверное…Но если кто и сможет украсть эти ключи, так это ты. Элиа в жизни даже пирожка чужого не взял, а я или Ивэн слишком заметны.
Зеленые глаза зло сверкнули. Кларенс явно не ожидал от тана подобного подвоха.
"…Я…я больше не буду спорить с тобой. И мешать не буду. И воровать…" Помнишь, тан, я обещал тебе это однажды? Так почему же ты заставляешь меня отказываться от своих слов, а тан? Какого черта, Ольг, ведь ты же сам учил меня тому, что надо быть честным, слышишь, ты, честным?
Честь для меня, Ольг, не твое танское достоинство, с которым ты можешь и выйти на смертельный бой, и на соседнюю улицу в лекарскую лавку. Для меня честь – это верность обещаниям. И ты сам заставляешь меня нарушать данное тебе слово!
Я не пойду. Я не смогу. Не заставляй меня делать это, Ольг. Пожалуйста.
Кажется, он проговорил это вслух. И удивился себе.
Кларенс из Келона перестал быть вором. Сейчас. В этот самый момент.
Лишь сейчас он осознал, что не чувствует себя тем Кларенсом, который жил на грязных келонских улицах на те деньги, что мог украсть у зазевавшихся горожан или приезжих недотеп. Тот, другой Кларенс, ушел, а вместе с ним ушли и озлобленность на мир маленького волчонка, которого лишили стаи, и горькая тоска по дому, которого у него давно уже не было, и вся эта бешеная ярость на тех, у кого есть то, чего он лишен. Ушли. И возвращать их он не хотел.
Ольг то ли заметил его состояние, то ли просто не хотел дальше уговаривать, отложив это на потом – промолчал, ничего не говоря.
– Пойдем на площадь, – сказал вдруг Элиа, – говорят, в Неар пришли менестрели.
* * *
Песни заезжих певцов везде и всегда принимали хорошо. Элиа нигде еще не видел, что менестрелям не подкинули бы звонкого серебра в расстеленный перед ними шерстяной коврик для сбора денег за хорошую песню или россказнь о том, что делается в других краях. Поэтому и на небольшой площади на окраине Неара, где жили в постоялом дворе они трое (Ивэн со своими молодцами выбрал местом ночлега заброшенный дом поодаль), народу хватало. Бродячие певцы, похоже, только недавно вошли в Неар, поэтому и вкусов местных не знали. Здешние жители – это наблюдательный Элиа уже понял – любили песни старые, певучие, оставшиеся еще со времен прадедов, а менестрели заводили новые мотивы, неизвестные горожанам.
Бродячих певцов было четверо. Седой старик с лютней, высокий темноволосый юноша, играющий на свирели, мужчина, судя по всему отец юноши, певший низким уверенным голосом, и совсем еще юная девушка с длинными черными волосами – она подпевала мужчине так сладко, что захватывало дух.
Элиа любил слушать менестрелей. Сам он петь не умел, да и не любил, если по правде, но музыка рождала в нем то же чувство, что и прочитанные книги: звала за собой, манила, играла. Но сегодня будто что-то не то было в выступлении, уж чересчур сладко и празднично пели о вечной любви темноволосая красавица и тот, взрослый. Элиа уже обернулся, чтобы уходить (хотя и Кларенс и Ольг стояли в толпе и слушали вроде бы с интересом), как вдруг что-то его остановило.
Из крытой повозки, расписанной, как и у всех бродячих музыкантов, яркими красками, неуклюже вылезал мальчишка его лет, ну может чуть постарше. Светловолосый, небогато и чуть неопрятно одетый, будто костюм свой надевал в темноте, наощупь. Невысокий, но крепкий.
И с черной повязкой на глазах, закрывающей пол-лица.
Слепой.
В руках он держал небольшую, по росту, лютню. Толпа, звеневшая монетами и просившая продолжения песни, как-то странно притихла. Мальчик тронул пальцами струны, заставляя их петь еле слышно, на грани слуха, так печально, как только было возможно, и Элиа развернулся таким резким рывком, что едва не сбил с ног Кларенса.
В моей тихой гавани лет отголоски,
Морские ветра в ней редкие гости.
Здесь волны о берег бьются печальный
И жив еще голос прошедших прощаний.
Песня была ему незнакома: печальная, но в то же время светлая, она задевала душу. Но знал он не песню. Он знал голос.
Внезапно тонкие пальцы, перебиравшие струны, ударили по ним с силой – будто налетел свежий морской ветер…
Мой компас давно не дает направлений
И сохнет корабль в ожиданье решений,
Безжизненной тряпкой висит белый парус,
А он ведь когда-то был с ветром на пару.
Голос был юный, звонкий, дерзкий, с переливами и оттенками, которые редки даже у певцов опытных, но в то же время где-то в глубине его таилась неистребимая печаль. Как всегда. Как тогда.
Мелодия внезапно стала тише, спокойней, даже певучей как-то…
Однажды по звездам увижу примету
И снова отправлюсь навстречу рассветам,
Корабль полетит словно белая птица
И радость шальная ко мне возвратится.
И снова перебор – но теперь уже не гневный, а торжествующий, ликующий, счастливый…
Мне чайки крикливые скажут "ну, здравствуй",
И я долгожданную встречу опасность,
И к сказочным странам я буду плавать,
Пока у меня есть моя тихая гавань.
Последний тихий аккорд, и деланное спокойствие Элиа рухнуло. Так мог петь только один человек на всем белом свете. Сирота из крепости Нарит. Главный источник злословий всех замковых кумушек. Его, Элиа, погибший друг.
… черный дождь, заливающий мир, осажденный замок посреди болот… мальчишка с арбалетом в руках… голубые глаза смотрят на тебя печально – он уже знает то, что твои близкие мертвы, что они погибли там, у реки, что их не вернуть никогда – как ни старайся, каких богов ни проси…