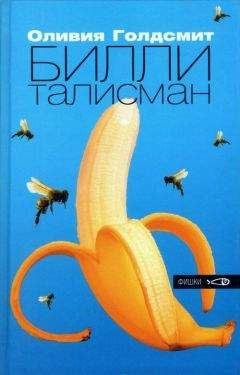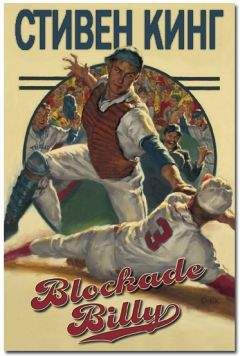С. Моргенштерн - Принцесса-невеста
– Доброй ночи, – быстро проговорила Лютик; с того самого дня, как он впервые показался на ферме её отца, она всегда испытывала страх,находясь рядом с графом.
– Я уверен, что он приедет, – сказал граф; он был посвящён во все планы принца, и Лютик об этом знала. – Я не слишком хорошо знаю вашего молодого человека, но он поразил меня. Любой, кто способен найти путь через Огненное Болото, несомненно, сможет найти путь к флоринскому замку до дня вашей свадьбы.
Лютик кивнула.
– Он показался мне таким сильным, таким необычайно могучим, – продолжил граф тёплым, убаюкивающим голосом. – Но мне интересно, обладает ли он настоящей чувствительностью, ведь многие сильные мужчины, как вы знаете, не могут этим похвастаться. Например, я могу спросить: он способен на слёзы?
– Уэстли никогда станет плакать, – ответила Лютик, открывая дверь своей спальни. – Кроме как из-за смерти своей любимой.
И с этими словами она закрыла дверь перед носом графа, и, в одиночестве, подошла к своей кровати и встала на колени. Уэстли, подумала она. Пожалуйста, приди ко мне; все эти недели в своих мыслях я молила тебя об этом, но до сих пор от тебя нет ни словечка. Прежде, когда мы были на ферме, я думала, что любила тебя, но это была не любовь. Когда я увидела твоё лицо под маской на дне ущелья, я думала, что люблю тебя, но и это была лишь безрассудная страсть. Любимый: я думаю, что теперь люблю тебя, и я умоляю тебя лишь об одном – дай мне шанс провести свою жизнь, постоянно доказывая это. Если бы ты был рядом, я могла бы провести всю свою жизнь на Огненном Болоте, и пела бы с утра и до ночи. Если бы я смогла держать твою руку, я могла бы провести вечность, тоня в Снежных Песках. Я желала бы провести вечность с тобой на облаке, но и ад показался бы мне счастьем, лишь бы Уэстли был со мной…
Она продолжала в том же духе, час безмолвия проходил за часом; последние тридцать восемь вечеров это было её единственным занятием, и раз от разу её страсть становилась всё глубже, её мысли – всё чище. Уэстли, Уэстли. Летящий через семь морей, чтобы забрать её.
Со своей стороны, и не ведая о её мольбах, Уэстли проводил вечера точно так же. Когда прекращались пытки, когда альбинос заканчивал обрабатывать его раны, или ожоги, или переломы, когда он оставался один в огромной клетке, он устремлял свои мысли к Лютик, и они надолго задерживались там.
Он так хорошо понимал её. Он понял, что в тот момент, когда он оставил её на ферме, и она клялась в своей любви, она, конечно, не сомневалась в ней, но ей едва сравнялось восемнадцать. Что могла она знать о глубине человеческого сердца? И потом, когда он снял свою чёрную маску, и она скатилась к нему по склону, её направляли не только чувства, но и удивление, потрясённое изумление. Но, как он знал о том, что солнцу суждено каждое утро вставать на востоке, как бы его не манил восход на западе, так знал он и о том, что Лютик было суждено любить лишь его. Золото было соблазнительно, и королевская власть тоже, но они не могли сравниться с пылом его сердца, и рано или поздно она должна была это понять. У неё было ещё меньше выбора, чем у солнца.
Поэтому, когда граф появился вместе с Машиной, Уэстли не был особенно обеспокоен. Собственно говоря, он не знал, что именно граф принёс с собой в огромную клетку. Совсем собственно говоря, граф не принёс ничего; всю работу выполнял альбинос, раз за разом уходящий и возвращавшийся, принося одну за другой какие-то штуки.
Именно так всё это выглядело для Уэстли: какие-то штуки. Маленькие мягкие чашечки разных размеров, и колесо, и ещё одна вещь, которая могла быть рычагом или палкой; пока было сложно сказать.
– Доброго вам вечера, – начал граф.
Ещё никогда на памяти Уэстли он не выказывал такого воодушевления. Уэстли в ответ очень слабо кивнул. Вообще-то он чувствовал себя так же хорошо, как и всегда, но данную новость не стоило афишировать.
– Немного нездоровится? – спросил граф.
Уэстли снова чуть кивнул.
Альбинос суетливо метался туда и обратно, принося ещё больше вещей: похожие на провода удлинители, тонкие и бесконечные.
– Это всё, – наконец произнёс граф.
Кивок.
Ушёл.
– Это – Машина, – сказал граф, когда они остались наедине. – Я потратил на её конструкцию одиннадцать лет. Как видите, я довольно-таки горд и возбуждён.
Уэстли удалось утвердительно моргнуть.
– Некоторое время я буду собирать её. – И с этими словами он занялся делом.
Уэстли наблюдал за процессом с большим интересом и довольно логичным любопытством.
– Вы же слышали сегодня тот крик?
Ещё одно утвердительное моргание.
– Это была дикая собака. Эта машина заставила её так кричать. – Граф занимался очень сложной работой, но шесть пальцев его правой руки, казалось, ни на секунду не сомневались в том, что им следует делать. – Я очень интересуюсь болью, – сказал граф, – как, я уверен, вы уже уловили за прошедшие месяцы. В интеллектуальном смысле, вообще говоря. Конечно же, я писал для научных журналов на данную тему. В основном статьи. В данный момент я занимаюсь написанием книги. Моей книги. Книгис большой буквы, я надеюсь. Академическая работа о боли, по крайней мере насколько мы знаем о ней к сегодняшнему дню.
Уэстли нашёл это чрезвычайно интересным. Он издал лёгкий стон.
– Я считаю, что боль – это самая недооценённая из доступных нам эмоций, – продолжил граф. – Змей-искуситель, как я это вижу, был болью. Боль была с нами всегда, и меня всегда раздражает, когда люди говорят «дело жизни и смерти», потому что, по моему мнению, правильно будет сказать «дело боли и смерти». – Тут граф на некоторое время замолчал, чтобы провести серию сложных настроек. – Одна из моих теорий, – добавил он позже, – состоит в том, что боль включает в себя ожидание. Не оригинально, признаю, но я покажу вам, что имею в виду: я не буду, подчёркиваю не, использовать Машину на вас сегодня. Я мог бы. Она готова и отлажена. Вместо этого я только соберу её и оставлю рядом с вами, чтобы вы смотрели на неё ближайшие двадцать четыре часа, пытаясь угадать, что это такое, и как она работает, и может ли она в самом деле быть столь ужасна. – Он чуть подтянул кое-что здесь, расслабил кое-что там, подёргал, похлопал, подогнал по форме.
Машина выглядела так глупо, что Уэстли испытывал желание захихикать. Вместо этого он снова застонал.