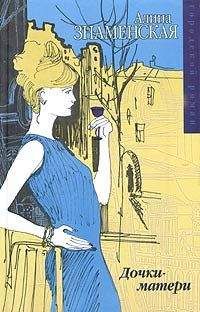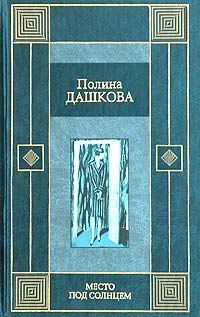Виктория Дьякова - Доктор Смерть
— Я буду всегда помнить вас, — прощаясь, Софи долго держала руку Маренн в своей, потом, не скрывая слез, наклонилась и поцеловала ее. — Вы спасли мне жизнь.
— Я знаю, что желать вам забыть все невозможно, — Маренн подняла ее голову и осторожно стерла слезы с лица. — Но постарайтесь жить. Жить хорошо, счастливо. Назло Бруннеру, назло всем. И не забывайте, что не все, кто носил эту форму, были такими, как он.
В середине ноября газеты опубликовали показания бывшего штандартенфюрера СС Альфреда Науйокса.
— Мама, мама, Алик жив, — Джилл в волнении вбежала в ее спальню, размахивая газетой. — Ты только прочти.
Рука ее дрожала, в глазах стояли слезы. Айстофель вскинул морду, тревожно навострив уши.
Маренн молча взяла газету, обняла дочь, прижав ее к себе. Потом, усадив Джилл в кресло, подошла к камину, развернула газету — она чувствовала, что и ее обуревает озноб, и ничего не могла с собой поделать. Рядом с жарко пылающим пламенем ей стало холодно, словно она оказалась раздетой на пронизывающем морозе зимой.
Сам Алик перед трибуналом не предстал, хотя суд вызвал его в качестве свидетеля. О причинах этого в газете умалчивалось.
— Странно, очень странно, — произнесла Маренн. — Почему показания зачитывал адвокат? Если вызывают на трибуну мелкую сошку, оберштурмфюрера Хесса, то штандартенфюрера должны были бы вызвать и подавно.
— Мама, может быть, он болен? — предположила Джилл. — Или…
В ее голосе послышался страх.
— Может быть, болен, — Маренн поспешила успокоить ее, хотя и сама подумала о худшем. — Но я сомневаюсь. Ты знаешь Алика. Он не был болен ни одного дня. Никогда. И в плену он тоже вряд ли заболеет. Не тот характер.
«Покончил с собой? Бежал? Расстрелян без суда и следствия? — тревожные мысли проносились в голове Маренн. — Нет, расстрелять, пока идет трибунал, не могут, будут ждать. Покончить с собой — Алик этого не сделает. Бежать… Бежал или отпустили? Возможно ли такое».
— Конечно, он выступает по главному для себя эпизоду, — Маренн обернулась к Джилл, заставив себя улыбнуться. — Начало Второй мировой войны. Это без него не обойдется.
Действительно, показания касались операции в Гляйвице, когда Германия совершила нападение на Польшу и началась Вторая мировая война. Алик дал их под присягой в Нюрнбергской тюрьме, так было написано в газете. Но как он, собственно, там оказался? Когда они расставались в Берлине, Скорцени и Науйокс направлялись на юг, чтобы там организовать сопротивление отрядов «вервольф», развязать партизанскую войну, во всяком случае, таков был приказ Гиммлера. Но ни о каких решительных действиях «вервольфа» в самом деле после падения Берлина не было ни слуху ни духу. Значит, они приказ не выполнили, — да и не было, верно, резона его выполнять, — а просто сдались в плен. Или не просто? С какой-то целью, которую наметили давно. Ничего этого Маренн не известно. И то, что Алик вдруг оказался в Нюрнбергской тюрьме, для нее было полной неожиданностью.
— Мама, наверное, Отто тоже там, — робко предположила Джилл. — Он, наверное, тоже жив.
Они подумали об одном и том же. Ведь Скорцени и Науйокс были вместе, и действовали они, скорее всего, согласованно. Она не ответила Джилл. Прижав газету к груди, смотрела на огонь. Айстофель, спрыгнув с постели, улегся у ее ног. Могла ли она представить себе, моля о спасении в лагере и проклиная тот день, когда села на поезд и приехала в Берлин, что именно в Германии Адольфа Гитлера, которая принесла столько страдания многим людям на земле, она найдет все то, что ей так не хватало в жизни прежде. Истинную дружбу и любовь. Ирма, Алик — они всегда были рядом, всегда на ее стороне, чтобы не случалось в ее жизни. Даже страшным летом сорок третьего года, когда погиб Штефан, Ирма неотлучно сидела у ее постели в то время, как сама нуждалась в отдыхе, лечении, заботе. Отто Скорцени приходил и в ревности бросал се, они встречались и снова расставались, но Алик и Ирма всегда оставались с ней. Теперь Ирмы больше нет, она погибла под обстрелом в Берлине, на пороге собственного дома. А Алик? Он выжил, потому что всегда помнил о долге. И надо полагать, он знал, что делал.
— Я думаю, нам не стоит беспокоиться, — сказала она дочери. — Во всяком случае, пока. Мы скоро все узнаем. Я надеюсь.
Новости поступали одна за другой. Свидетелем по делу Эрнеста Кальтенбруннера суд вызвал Вальтера Шелленберга. Как выяснилось, воспользовавшись покровительством шведского Красного Креста, Шелленберг в начале мая сорок пятого прибыл в Копенгаген, чтобы вести переговоры о заключении перемирия в Скандинавии. Ему покровительствовал граф Бернадот, родственник шведской королевской семьи. Имея официальные полномочия на заключение перемирия, Шелленберг отправился в Стокгольм. Однако англичане категорически отклонили посредничество шведского Красного Креста, и миссия Шелленберга провалилась. После капитуляции Германии Шелленберг некоторое время жил на вилле Бернадота в Швеции. Однако в июне сорок пятого года англичане потребовали его выдачи как военного преступника и добились своего. Бывшего бригадефюрера внесли в число обвиняемых, которые должны предстать перед военным трибуналом в Нюрнберге, но дело выделили в отдельное разбирательство, что давало некоторую надежду.
— Нет, его не повесят, не повесят, — Маренн не знала, кого она убеждала, себя или Джилл. — Иначе они не назначали бы специальный процесс. Не повесят…
Не выдержав, она упала на подушку, лицом вниз, слезы беззвучно катились по ее лицу, плечи вздрагивали.
— Но даже если они его не повесят, а отправят в тюрьму, он не выдержит, — прошептала она. — Он тяжело болен, его никто не будет там лечить.
— Мама, господина бригадефюрера вызвали всего лишь пока по одному эпизоду, по делу военного министерства и других ведомств. Это, наверное, не так страшно.
Джилл присела на кровать рядом и гладила Маренн по плечу. Она сказала так просто, как говорила многие годы до того, когда работала в Бюро переводов на Беркаерштрассе: «Мама, господин бригадефюрер просил тебя заехать к нему. Мама, господин бригадефюрер просил передать тебе…» Ма-ренн невольно улыбнулась, повернув голову и положив ладонь на руку Джилл, сжала ее пальцы.
— Я знала, — сказала она негромко, — что все, что мы пережили в Берлине, это не самое страшное. Самое страшное — это теперь. Смерть на войне — мгновенна, обыденна и даже оправдана. Пуля не выбирает, да и снаряд тоже. Она может настичь каждого. Страшно зависеть от воли людей, Джилл. Ждать и бояться казни. Не за себя, за тех, кого любишь.
— Но этого не может быть, мама, этого не может быть.
Джилл опустила голову, сжав ладонями виски. Сквозь тонкие пальцы пробивались пряди седых волос. Она отказывалась их красить, как Маренн ни уговаривала.