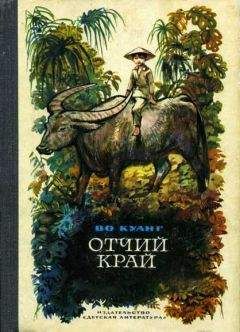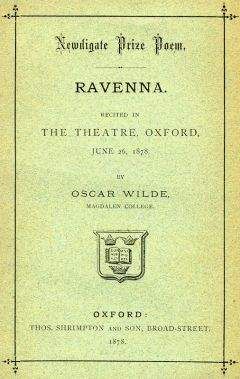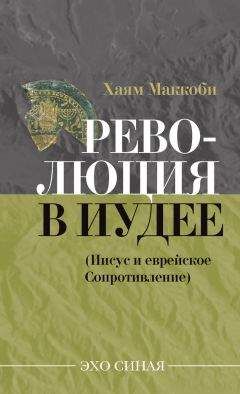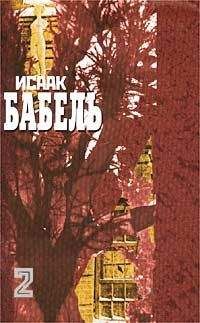Бабель (ЛП) - Куанг Ребекка
Тем временем шли экзамены третьего курса. В Оксфорде экзамены в конце года были весьма торжественным событием. До последних лет предыдущего века экзамены viva voce — устные опросы, проводимые публично для толпы зрителей, — были нормой, хотя к началу 1830-х годов обычная степень бакалавра требовала только пяти письменных экзаменов и одного экзамена viva voce на том основании, что устные ответы слишком трудно объективно оценить и, кроме того, они были излишне суровыми. К 1836 году зрителей на vivas больше не пускали, и горожане лишились прекрасного источника ежегодного развлечения.
Вместо этого группе Робина сказали, что их ожидает трехчасовой экзамен по эссе на каждом из изучаемых языков, трехчасовой экзамен по этимологии, экзамен по теории перевода и тест по обработке серебра. Они не могли остаться в Бабеле, если проваливали любой из экзаменов по языку или теории, а если они проваливали тест по обработке серебра, то не могли в будущем работать на восьмом этаже*.
Экзамен viva voce проводился перед комиссией из трех профессоров во главе с профессором Плэйфером, который был печально известным жестким экзаменатором и, по слухам, каждый год доводил до слез как минимум двух студентов. Балдердаш», — медленно произносил он, — «это слово обозначало проклятый коктейль, который создавали бармены, когда в конце вечера у них почти заканчивались все напитки. Эль, вино, сидр, молоко — они заливали все это и надеялись, что их посетители не будут возражать, ведь, в конце концов, цель была просто напиться. Но это Оксфордский университет, а не таверна «Турф» после полуночи, и нам нужно что-то более освещающее, чем пьянство. Не хотите ли попробовать еще раз?
Время, казавшееся бесконечным на первом и втором курсах, теперь быстро бежало по песочным часам. Они больше не могли откладывать чтение, чтобы поваляться на берегу реки, полагая, что позже всегда будет возможность наверстать упущенное. Экзамены были через пять недель, потом через четыре, потом через три. Когда заканчивался семестр Троицы, последний день занятий должен был увенчаться золотым днем, десертами, кордиалом из бузины и катанием на лодке по реке Червелл. Но как только колокола прозвенели в четыре, они собрали свои книги и прямо из класса профессора Крафта отправились в одну из учебных комнат на пятом этаже, где каждый день в течение следующих тринадцати дней они сидели, уткнувшись в словари, переводы и списки лексики, пока у них не запульсировали виски.
Действуя из щедрости, а может быть, из садизма, преподаватели Бабеля предоставили экзаменуемым набор серебряных брусков для использования в качестве учебных пособий. На этих брусках была выгравирована пара слов: английское слово meticulous и его латинский предшественник metus, означающий «страх, ужас». Современное слово «дотошный» возникло всего за несколько десятилетий до этого во Франции и означало боязнь допустить ошибку. Эффект баров заключался в том, что они вызывали леденящую душу тревогу всякий раз, когда пользователь допускал ошибку в своей работе.
Рами ненавидел и отказывался их использовать. «Это не говорит вам, где вы ошиблись», — жаловался он. Просто хочется блевать без всякой причины».
«Ну, тебе не помешало бы быть более осторожным», — ворчала Летти, возвращая ему помеченное задание. На этой странице ты сделал по меньшей мере двенадцать ошибок, а твои предложения слишком длинные...
«Они не слишком длинные, они цицероновские».
Ты не можешь просто оправдать все плохое письмо на том основании, что оно цицероновское...
Рами пренебрежительно махнул рукой. «Все в порядке, Летти, я написал это за десять минут».
«Но дело не в скорости. Дело в точности...
«Чем больше я делаю, тем больший диапазон возможных вопросов я приобретаю», — сказал Рами. И это то, к чему мы действительно должны подготовиться. Я не хочу остаться без ответа, когда передо мной будет лежать бумага».
Это было обоснованное беспокойство. Стресс обладает уникальной способностью стирать из памяти студентов то, что они изучали годами. Во время экзаменов на четвертом курсе в прошлом году, по слухам, один из экзаменуемых стал настолько параноиком, что заявил не только о том, что не сможет закончить экзамен, но и о том, что он лжет о том, что свободно владеет французским языком. (На самом деле он был носителем языка). Все они думали, что у них есть иммунитет к этой особой глупости, пока однажды, за неделю до экзаменов, Летти вдруг не разрыдалась и не заявила, что не знает ни слова по-немецки, ни единого слова, что она мошенница и вся ее карьера в Бабеле была основана на притворстве. Никто из них не понял этой тирады лишь намного позже, потому что она действительно произнесла ее по-немецки.
Провалы в памяти были лишь первым симптомом. Никогда еще беспокойство Робина по поводу своих оценок не вызывало у него такого физического недомогания. Сначала появилась постоянная, пульсирующая головная боль, а затем постоянное желание проблеваться каждый раз, когда он вставал или двигался. Волны дрожи накатывали на него без всякого предупреждения; часто его рука дрожала так сильно, что он с трудом брал ручку. Однажды, во время практической работы, он обнаружил, что его зрение потемнело; он не мог думать, не мог вспомнить ни одного слова, даже не мог видеть. Ему потребовалось почти десять минут, чтобы прийти в себя. Он не мог заставить себя есть. Он был каким-то образом постоянно измотан и не мог заснуть от избытка нервной энергии.
Затем, как все хорошие оксфордские старшекурсники, он обнаружил, что теряет рассудок. Его хватка за реальность, и без того непрочная из-за длительной изоляции в городе ученых, стала еще более фрагментарной. Многочасовая работа над рефератами нарушила его восприятие знаков и символов, его веру в то, что реально, а что нет. Абстрактное было фактическим и важным; повседневные нужды, такие как каша и яйца, были под подозрением. Повседневный диалог превратился в рутину, светская беседа вызывала ужас, и он потерял понимание того, что означают основные приветствия. Когда носильщик спросил его, хорошо ли он провел время, он стоял неподвижно и немой в течение добрых тридцати секунд, не в силах понять, что означает «хорошо» или, более того, «один».
О, то же самое, — весело сказал Рами, когда Робин заговорила об этом. Это ужасно. Я больше не могу вести элементарные разговоры — мне все время интересно, что на самом деле означают слова».
«Я натыкаюсь на стены», — сказала Виктория. Мир продолжает исчезать вокруг меня, и все, что я могу воспринять, — это списки словарей».
«Для меня это чайные листья», — сказала Летти. Они все время выглядят как глифы, и на днях я действительно обнаружила, что пытаюсь навести глянец на один из них — я даже начала копировать его на бумагу и все такое».
Робину стало легче, когда он услышал, что не только он видит что-то, потому что видения беспокоили его больше всего. Он начал галлюцинировать целыми людьми. Однажды, когда Робин рылся на книжных полках у Торнтона в поисках поэтической антологии из их списка для чтения на латыни, он увидел у двери знакомый профиль. Он подошел ближе. Глаза его не обманули — Энтони Риббен расплачивался за завернутую в бумагу посылку, здоровый и бодрый.
Энтони... — пролепетал Робин.
Энтони поднял взгляд. Он увидел Робина. Его глаза расширились. Робин двинулся вперед, смущенный и одновременно обрадованный, но Энтони поспешно сунул книготорговцу несколько монет и выскочил из магазина. К тому времени как Робин вышел на улицу Магдалины, Энтони уже исчез из виду. Робин несколько секунд смотрел по сторонам, затем вернулся в книжный магазин, размышляя, не принял ли он незнакомца за Энтони. Но в Оксфорде было не так много молодых чернокожих мужчин. Это означало, что либо ему солгали о смерти Энтони — что действительно все преподаватели Бабеля сделали это в качестве тщательно продуманной мистификации, — либо он все это выдумал. В его нынешнем состоянии последнее казалось ему гораздо более вероятным.
Экзамен, которого все они боялись больше всего, был экзаменом по обработке серебра. В последнюю неделю семестра Троицы им сообщили, что они должны будут придумать уникальную пару пиктограмм и выгравировать ее перед проктором. На четвертом курсе, когда они закончат свое ученичество, они изучат правильную технику создания пар связок, гравировки, экспериментов с величиной и продолжительностью эффекта, а также тонкости резонансных связей и речевого проявления. Но пока, вооруженные лишь основными принципами работы спаренных пар, они должны были лишь добиться хоть какого-то эффекта. Он не должен был быть идеальным — первые попытки никогда не были идеальными. Но они должны были что-то сделать. Они должны были доказать, что обладают тем неопределимым свойством, тем неповторимым чутьем на смысл, которое делает переводчика серебряным дел мастером.