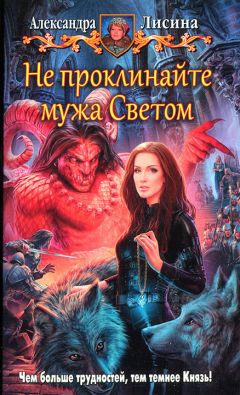Екатерина Кинн - Самое Тихое Время Города
«Художник. От слова „худо“. Нет, Андрюша, ты не художник. Ты неудавшийся архитектор, с горя взявшийся за кисть. Архитектор, который не умеет рисовать, – барахло, а не архитектор. А если умеет рисовать, но не архитектор – то кто? Ты даже не дизайнер по интерьеру, хотя у тебя и визитка есть. Ну да на заборе тоже три матерных буквы написано, а там дрова лежат…»
Работа, слава богу, не обязывала сидеть в бюро от звонка до звонка, а три обязательных присутственных дня – это терпимо. Не сказать, чтобы Андрей зашибал большие деньги, но на жизнь хватало – а главное, оставалось время писать. Хороший он художник или плохой – он давно перестал задумываться. Понятно, что не Левитан. Так что страдать? Надо просто писать.
Сейчас в работе возник вялотекущий застой. Заказов хватало, но все они были тупые какие-то. И клепал Андрей их, как на конвейере. И было ему тошно. Потому что опять наступила осень. И потому что опять приснился ему старый сон, который почему-то всегда приходил к нему осенью. Чтобы не думать о нем, он обычно хватал мольберт и отправлялся за город, в лес, или в парк, или на бульвар и возвращался домой закоченевший, с пачкой набросков и этюдов. А потом, отогрев руки, брался снова за карандаш или кисть и как проклятый пытался изобразить свою Разящую-без-жалости, La Belle Dame sans merci…
«Ненавижу осень!»
Очень давно, лет с пятнадцати, он знал, что эта рыжая девка с бездонными глазами – его смерть. Андрей был атеистом и в приметы не верил, но эта потусторонняя сволочь снилась ему уже много лет. Снилась и жить не давала, потому что в каждой девушке он выискивал сходство с ней. В армии он чуть с ума не сошел из-за нее. Но, с другой стороны, без нее он бы там сломался. А так в ответ на малейшее поползновение просто бил в торец. Парень он был здоровый, метр восемьдесят, и карате занимался, так что если кому хотелось в чайник получить – только подходи по одному.
А сегодня ему приснилось, что она в городе. Во сне он шел по Остоженке к центру и где-то возле Лопухинского переулка чуть с ней не столкнулся. Они смотрели друг на друга минуты три, отделенные от всех прохожих стеклянной стеной, и Андрей чувствовал, как в груди растет ледяной ком. Потом он все же очнулся, протянул к ней руку, чтобы ухватить за черные на этот раз лохмы и добиться от нее ну хоть какого-нибудь ответа. А она растворилась в воздухе, и тут мимо него пронеслась целая стая котов – штук, наверное, пять, как-то уж очень целеустремленно летевших к подворотне. Коты были слишком здоровые, таких наяву не бывает. На этом Андрей проснулся. Весь мокрый, в каком-то оцепенении. И ощутил в груди пустоту – если считать, что душа именно в груди помещается, то если ее, душу, убрать, такая получится пустота.
И вот сидел он, пил кофе, и пустота постепенно уменьшалась, стягивалась, зарастала. Допив кофе, Андрей привел себя в порядок, оделся, взял рабочую сумку и вышел из дому.
Он был уверен, что на углу Остоженки и Лопухинского встретится с ней лицом к лицу.
После полудня он сидел на Чистопрудном бульваре и рисовал. У этого бульвара есть одна особенность – он идет по холмику, сначала вверх, потом немного вниз. И с этого места кажется, что он спускается к Китай-городу, хотя на самом деле там начинается Покровский бульвар. Если смотреть почти от самого метро, от памятника, то кажется, что бульвар резко обрывается, как трамплин, и с него можно скользнуть прямо над Китайгородской стеной, над рекой и приземлиться даже не в Замоскворечье, а в каком-то иномирном-иномерном Заречье. А если эту перспективу еще умно использовать… Вот над этой самой многомерной перспективой Андрей и бился. Чтобы не сидеть впустую, он прихватил с собой пару небольших этюдов и пачку графики, разложил на скамейке на манер выставки – подходи, смотри, покупай. Иногда брали. Он никогда не рисовал в стиле «Москва златоглавая» или «а-ля рюсс». Андрей любил, чтобы в картине или городском пейзаже была тайна, недосказанность, нездешность. Однажды он прочитал в каком-то журнале об архитекторе, который развлекается тем, что делает эскизы Москвы, какой она была бы, если бы тот дом не снесли, этот особняк не порушили, это чудище бетонное не воткнули. Идея понравилась, с тех пор некоторые свои осенние зарисовки Андрей стал именно в таком стиле и выполнять. Тем более что последнее время Москва, знакомая и привычная ему Москва, исчезала с устрашающей скоростью. Даже если дома вроде и не сносили, втыкая на их место уродливые новоделы, их потрошили, набивали чем-то чужим, и стояли пустые оболочки, и сквозь их темные стекла смотрело что-то чужое… Как будто войдешь в этот дом – а выйдешь уже совсем в другой Москве, совсем чужой и страшной.
Но иногда случалось и маленькое чудо. Недавно оказавшись по делам в Гнесинке и продвигаясь потом к Новому Арбату, он вдруг замер перед двухсотлетним ясенем. Память подсказывала, что тут должен быть какой-то бетонный дом. Дома не было. Было пространство – манящее, затягивающее в незнакомую, иную Москву – живую и желанную.
Андрей ночь не спал, рисуя этот ясень и солнечное сияние улиц иной Москвы за ним.
Парня, который уже довольно давно стоял и рассматривал разложенные этюды, он заметил не сразу. Поймав взгляд Андрея, тот чуть заметно улыбнулся и спросил:
– Сколько стоит вот эта картина?
Неделю назад Андрей написал маслом на холсте двадцать на сорок кленовый лист на земле. Получилось странно – вроде и хорошо, но бесполезно. Во всех подробностях прописанный желтый лист с багряными прожилками и пятнышками, по краям обожженный пурпуром, жухлая трава и проглядывающий источенный до паутины силуэт прошлогоднего истлевшего листа.
В голову ударила кровь, сердце екнуло, и он невольно поднес руку к груди. На листке четко виднелся теневой профиль La Belle Dame с разящим без промаха копьем. Она пришла. Она где-то за плечом. Он затравленно обернулся, но парень чуть переместился, его тень накрыла рисунок – и силуэт Охотницы исчез.
– Я забираю ее, – высоким мелодичным голосом с непонятной жесткой решительностью произнес парень и полез за деньгами во внутренний карман куртки.
Андрей, вырванный из оцепенения его словами, уставился на него. Может, это все осеннее наваждение, но парень был НЕ ОТСЮДА. Невысокий, довольно хрупкий, черноволосый. Движения у него были точные, грациозные и удивительно уместные, ничего лишнего. Лицо – более чем примечательное. В студенческие времена Андрей подрабатывал, рисуя мгновенные портреты, и насмотрелся на всяких. Так вот сейчас он не взялся бы определить, кто этот парень по национальности. Брови четкие, прямые, чуть приподнятые к вискам, глаза тоже какие-то раскосые, но не миндалевидные, как бывает у жителей Южной Европы. Скулы высоковатые для европейца, но никаких признаков монгольского наследства. Очень симпатичный, но, будь ресницы чуть подлиннее и рот чуть поменьше, стал бы неприятно смазлив. Не слишком мужественной внешности, одним словом. Андрей не очень таких жаловал, но в этом парне было странное обаяние. И глаза чудного цвета – то серые, то вдруг черные, но такое впечатление, что в темноте они у него будут светиться. А сейчас они просто сияли – и не в переносном смысле, а в самом прямом. Он почувствовал пристальный, изучающий взгляд художника и посмотрел Андрею прямо в глаза.