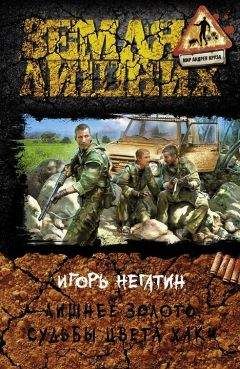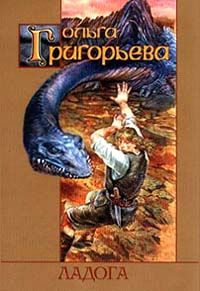Ольга Григорьева - Ладога
– Да что ты о чести знаешь, чума болотная?! – Росянка разомкнула объятия, угрожающе выставив скрюченные пальцы, прыгнула к Лису. Медведь ловко обхватил ее тонкую талию, пробурчал веско:
– Дело решенное. Быть мне воем.
Девка сразу и сникла, осела, тихо всхлипывая, у его ног – так и осталась там маленьким, жалким комочком. У Медведя щеки дергались, а не двигался, не поднимал ее – стоял, точно истукан каменный…
Я на них загляделся, про все забыл, потому и не услышал тяжелого отцовского всхлипа.
– Ты! – Коснулся моей щеки сухой палец, нарисовал долгожданный крест. Сновидица уж на что глуха, а вздох отца расслышала, ухмыльнулась. – Воля богов, Старейшина, воля Князя.
Отец печально заглянул мне в глаза. Не замечал я раньше в них такой усталой тяжести.
– Что скажешь, сын?
Что я мог сказать? Клокотала во мне безудержная радость, рвалась наружу, будто на крыльях ветра – Стрибожьего внука. Как сдержать ее?
Не заставили меня задуматься печальные отцовские глаза, не остановили взоры родичей.
– Я ухожу!
Сновидица расхохоталась, точно ворона закаркала. Отец помутнел лицом, хрипло выдавил:
– Будь по-твоему, – и, обрывая смех Сновидицы, велел: – Дальше!
Вскружила мне голову удача – и думать ни о чем не мог, кроме как о битвах да славных подвигах. Не сразу понял, с чего завыли вдруг все девки хором, заголосили, будто по покойнику. А присмотревшись, узрел угольную отметину на щеке Бегуна. Избранный…
Мимо него ни одна девка не проходила, да и те заглядывались, что давно уж девичий венец на высокую кику сменили. Чего особенного находили они в его голубых, точно рассветное небо, глазах, в широкой его доверчивой улыбке? Почему не могли удержаться, чтоб не провести ласково по светлым льняным волосам? Может, манил данный ему богами чудный голос да идущий изнутри добрый свет?
Родителей Бегуна и всю его семью пять лет тому покосил болотный мор. Сироту, певуна голосистого, даже нежить болотная жалела, вот и повадился он по соседним печищам вести разносить. Судьба его не баловала, зато люди привечали. Его сноровкой да умением многие жизни спасены были, многие печища у Хозяйки Болотной отвоеваны. В Малой Ладожке его до сей поры, будто боярина, привечали, а ведь уже три года как отстояли село… Бегун тогда всю ночь по болоту бежал, спешил упредить о топляках, что на Ладожку напали. Успел… Наши, его вести выслушав, вооружились кто чем мог да помчались на выручку. Топляков загнали обратно в болото, а печище от нежити очистили. В то время Бегуна мало кто знал, а теперь, пожалуй, нет в Приболотье человека, с коим ему не довелось бы встретиться. Все ему чем-то обязаны, везде ему рады. Язык у певуна подвешен славно, умеет знакомцев заводить и говорит, будто бы с писаного читает, даром что неграмотный. Умен да хорош, – чего еще девкам надо! Вот и воют-убиваются…
Сновидица легко подтолкнула его к костру. Он улыбнулся, проскользнул невесомой тенью, пристроился рядом с братьями. Стояли они, словно влитые, плечом к плечу, лишь я – на отшибе, под отцовской защитой. Стыдно стало, шагнул вперед, в светлый круг, и показалось, будто на ровной пустоши голышом очутился – негде скрыться от испытующих глаз, некуда спрятаться… Отец почуял мой страх, придержал за руку:
– Слушайте, родичи! К Ладоге путь далек да неведом. Ставлю я сына моего, Славена, избранниками Княжьими верховодить да прошу на то согласия вашего.
Толпа загудела, зашепталась на разные голоса. Выступил вперед Хитрец, склонился, затряс короткой бороденкой:
– Будь по-твоему, Старейшина.
И покосился на меня как-то странно, будто не обрадовало его мое избрание. Даже обидно стало – сам ведь сказывал о мужах доблестных да о битвах великих. Сам твердил, что воев, лучше словен, на всем свете не сыщешь. Учил: «Сопутствует счастье лишь сильным да смелым, а с иными не по пути ему…» Как в наших болотах сильным да смелым станешь? В лучшем разе – охотником удачливым. А охотник вою не чета…
– Тебе, сын, ватагу в Ладогу вести, тебе за жизни их ответ перед Ладожским Князем держать. – Отец смотрел строго, а губы кривились, словно заплакать хотел да не мог – разучился за долгие годы, без слез проведенные. – А челяди сей кланяться тебе, как мне кланялись.
Значит, быть мне для избранных Старейшиной… Зашлось сердце – и лестно и боязно. С одним только Бегуном как совладать? Разве укажешь ему: это – делай, то – не делай. Ветру разве укажешь?
Едва о том подумал – Бегун поклонился в пояс, заверил меня:
– Был ты для меня кровным родичем, станешь – старшим братом.
Отлегло от души. После такой клятвы я от певуна всего могу требовать – не ослушается. А охотники и без клятв слово Старейшины почитают. Медведь уже и рот открыл – повторить Бегуном сказанное, да я его остановил:
– Не надо.
Он не упрямился, отступил:
– Как пожелаешь…
Люди разомкнулись, давая ему место, лишь один не отошел. Темный, зловещий. Потянуло по поляне холодом, повеяло неведомым… Сновидица завыла волчицей, рухнула темной тени в ноги, еле коснулась ее груди крестообразной отметиной:
– Сыночек, сыночек…
Толпа еще дальше попятилась, загудела взволнованно:
– Нельзя Чужака брать… Не доведет он до добра… Меня злость обуяла. Неужто и Чужака выбрал Князь? На что ему чахлый Сновидицын заморыш? Как можно его с нами, лучшими да сильнейшими, равнять?!
Старуха вскинулась, завращала страшно бельмами:
– Воля Князя! Воля богов! Отец махнул рукой:
– Слышу. Пусть идет с ватагой. Но сперва сыну моему поклонится…
Чужак вышел на свет. Согнутый, жалкий… На плечах охабень рваный, в руке палка резная. Поговаривали наши бабы, будто он без палки и ходить не может – валится, а лицо под капюшоном прячет оттого, что на него смотреть невозможно – так уродлив. Он, и верно, лица никогда не открывал. Даже сейчас, у костра стоя, в охабень с головой закутался да забормотал неразборчиво…
Бубнил-бунил, а после кивнул мне, будто пообещал что-то, и пошел в темноту. Сновидица забыла о нас, за сыном вдогон бросилась, но как за тенью угонишься?
Я в Чужакову клятву не поверил, да и никто не поверил. Не наш он, не болотницкий. От кого только его ведунья прижила? Мать-покойница сказывала, будто когда-то уходила из села Сновидица. Год тогда выдался плохой: зверье дохнуть стало, топляки зашевелились, людей голод и мор одолели. С горя да сдуру обвинили ведунью. Она, мол, беды наслала. Обвинили да из печища-то и выгнали. Долго ее не было. Где жила, с кем – неведомо, а без нее еще хуже стало. Бабы уродцев рожать начали, мужики в Трясине гибнуть. Спохватились наши, послали разыскивать Сновидицу, Далеко гонцы не ушли, на тропе к печищу ее встретили. Сама возвращалась да в тряпицах ребенка несла. Вышли люди ее встречать, повиниться хотели, да только поднял глуздырь голову, сползла с него шкура, в коею укутан был, и раздумали наши бабы каяться. Моя мать там тоже была. В глаза дитю глянула и охолодела вся.
![Алексей Шпик - Проклятый. Серый путь[СИ]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)