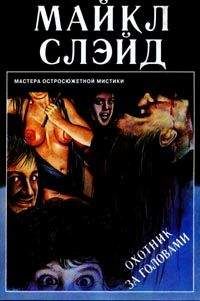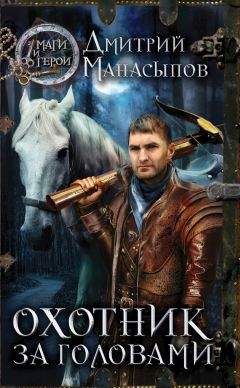Охотник за головами (ЛП) - Каррэн Тим
Когда всё закончилось, густой лес превратился в месиво из поваленных и расщеплённых деревьев и тлеющей листвы. Внизу виднелись северовьетнамцы — десятки и десятки — пытающиеся выбраться. А потом над кромкой леса пронеслись два боевых вертолёта «Кобра», поливая отступающих ракетами и огнём из минигана.
— Вот они, змеюки! — закричал кто-то.
«Кобры» сделали ещё два-три захода, пока внизу всё не замерло, и улетели.
И всё. Мы сломали им хребет.
Свит поднял нас в движение — переносить раненых к месту эвакуации. Вертолёты прилетали и улетали, забирая убитых и раненых. Остальные — вместе с ротами «Чарли» и «Эхо» — держали оборонительное кольцо, ожидая своей очереди. Мы понимали, что ждать придётся часами. Так мы и сидели в темноте, вслушиваясь в джунгли и обливаясь потом, ждали, просто ждали.
Взвод, с которым я был, забрали одним из последних.
Больше столкновений не было. То, что осталось от северовьетнамских сил, отступило зализывать раны и подбирать своих мёртвых. Около одиннадцати вечера кто-то начал стрелять, и, конечно, скоро все подхватили, пока Свит не приказал прекратить огонь.
Через некоторое время он вернулся, качая головой:
— Чёртовы дети, — проворчал он. — Херня им мерещится.
Я уже слышал шум винтов — наши вертолёты заходили на посадку.
— Думали, видели Чарли? — спросил я.
Свит только хрипло усмехнулся:
— Нет. Головной дозорный сказал, что видел кого-то на границе периметра. Говорит, ростом метра два с половиной...
5
Всё это крутилось в барабане моего мозга — смерть и умирание, кровь и истории о призраках — бурлило там мерзкой, тошнотворной похлёбкой с тяжёлым духом разложения. Я думал о рассказе Куинна, видел лица тех вьетнамцев в Бай Локе — смеющегося безглазого старика и ту безумную женщину, которая показывала на меня и твердила про дьявола-охотника-за-головами. Прошло всего несколько дней с той вылазки с 4-м полком, а я всё думал о словах Свита — про головного дозорного, который стрелял в кого-то двухметрового с лишним.
Это была, конечно, полная херня.
Но я не мог выбросить это из головы. Я был измотан морально и физически. Недосып. Слишком много стимуляторов, успокоительных, выпивки, боёв и девочек из сайгонских баров. Всё это брало своё. Стоило закрыть глаза — я видел лица мёртвых девятнадцатилетних парней, таких как Тунс. Они все начинали казаться похожими. А в том недолгом сне, что удавалось поймать, за мной гонялись громадные твари, охотящиеся за головами в Центральном нагорье.
Надо было просто уехать, убраться из этой проклятой страны, но я не уехал.
Что-то внутри меня не давало уйти.
Пехотинцы всегда поражались, когда я рассказывал им, что мог в любой момент свалить из Вьетнама — просто сесть на самолёт и улететь домой. Узнав об этом, они либо проникались ко мне ещё большей симпатией, либо начинали ненавидеть ещё сильнее, называя тупым ебанутым мудаком.
Впрочем, большинство пехотинцев, похоже, меня приняли, если не сказать что я им нравился. Я не раз бывал с ними в самом пекле, и они ценили то, что я сражался плечом к плечу, помогал раненым, да и связи у меня были хорошие на чёрном рынке. Каждый раз, наведываясь в часть, я притаскивал пару бутылок Джека Дэниелса, порнуху и блоки сигарет. Иногда травку. В общем, всё, что мог достать. Порой я задумывался — заслужил ли я их дружбу и уважение или попросту купил. Переживал, что играю с ними в психологические игры. Но, в конце концов, понимал, что единственный, с кем я играл в эти игры, был я сам.
Хотя иногда закрадывались сомнения.
Некоторые пехотинцы были настолько взвинчены, озлоблены и полны ненависти. Они смотрели на меня как на паразита, падальщика, живущего за счёт мёртвых и умирающих, упивающегося трагедией. И, может, они были правы. Я не знаю. Скажу только, что никогда не фотографировал мёртвых — ни наших, ни гуков. Я видел, как некоторые корреспонденты прямо возбуждались, когда узнавали, что подразделение возвращается из джунглей с убитыми. Они собирались на взлётке и, когда тела выгружали и укладывали рядами, сновали между ними, отдёргивая брезент и щёлкая эти изуродованные молодые лица.
Однажды чёрный парень из третьей дивизии морпехов, с которым мы вместе бухали, курили дурь и снимали шлюх, вернулся с задания, и я пошёл проведать его в хижине. Нашёл его на коленях — он молотил кулаками по койке. Звали его Дудак. На нём всё ещё была полевая форма, изношенная и заляпанная кровью. Даже не повернувшись ко мне, он начал рассказывать, как его рота была на задании с подразделениями 37-го батальона рейнджеров АРВ[1]. Они были недалеко от Плейку, выслеживая смешанный батальон регулярных войск Северного Вьетнама и вьетконговцев. И выследили, блядь. АРВшники завели их не в одну, а в три отдельные засады. И каждый раз держались позади, будто знали, что будет. Вскоре морпехи уже не сомневались — АРВшники работают с северянами.
Но им отплатили.
Когда пришло время эвакуации, их командир — капитан Ривас — приказал АРВшникам прикрывать отход. А когда прилетели вертушки, их кинули. Ривас вызвал борты только для своих. Как только морпехи загрузились, АРВшники вылетели из джунглей с вьетконговцами на хвосте — похоже, это было подразделение ВК, не участвовавшее в подставе. Морпехи открыли огонь по АРВшникам, и те оказались между двух огней. Их просто искрошило.
Последнее, что видел Дудак — они дохли как мухи.
— Вот такое дерьмо мы там хлебаем, сэр. Въезжаете, сэр? Теперь у вас есть ваша история, да, сэр? Можете размазать её по своей ёбаной первой полосе, сэр...
Он был на взводе и вымотан, но я не мог это так оставить. Надо было просто уйти, но я психанул и, подойдя, залепил ему пощёчину.
— Я тебе не сэр, — процедил я.
И тут он набросился на меня. Повалил на пол, приставил нож к горлу, его чёрное лицо было потным и жирным, от него несло джунглевой гнилью. Я думал, он перережет мне глотку, но вместо этого он вдруг расхохотался.
— Заебись, заебись, — выдавил он сквозь смех. — Ты не сэр, и я не сэр, и нет никаких сэров среди нас.
Через неделю Дудак погиб в бою.
Но это был Вьетнам.
Входящие снаряды и исходящие тела.
6
Во время войны некоторые начали понимать, что американская армия разваливается. Расползается по швам и разматывается, как старое одеяло. Говорили, всё из-за наркоты, отсутствия поддержки дома и того, как правительство вело войну — не объявляя её официально, всегда отступая, когда можно было нанести смертельный удар по северянам.
Не буду с этим спорить.
Пехотинцы, которых я знал и с кем бывал в деле, были не хуже любых других в любой другой войне. Они дрались отчаянно и храбро, но не ради любви к родине и не ради всего этого лицемерного размахивания флагом. Они делали это потому, что у них были только их товарищи и их подразделения значили для них целый мир — так что они дрались друг за друга и за то, чтобы выжить. Трусы там были, как и в любой войне — конечно, но и храбрецов легион.
Лучшими подразделениями там, пожалуй, были силы специальных операций — «зелёные береты» и «морские котики», морская разведка и австралийский SAS. Такие части вели партизанскую войну против партизан, и чертовски хорошо это делали.
Некоторые из этих «беретов» были совсем отмороженные, но иначе и быть не могло. Для них война была наркотиком — они вмазывались ей, нюхали её, курили её и глушили как вино. Им не нужна была обычная дурь, никакой герыч или кислота, потому что они знали, что такое настоящий приход, настоящий кайф. Та же самая всепоглощающая зависимость, что человек притащил с собой ещё из пещер.
Однажды я вернулся с тяжёлого патруля, насмотревшись на упакованные в пластик трупы. Один «зелёный берет» ржал надо мной, говорил, что я нихуя не видел, нихуя не знаю, и не узнал бы говна, даже если б вляпался в него своими сопливыми ножками. Он стоял там и ржал, в потрёпанной полевой форме с тигровым камуфляжем. Берет был лихо заломлен набок, а на груди в быстросъёмных ножнах висел здоровенный нож «Рэндал» сил специального назначения. Он всё называл меня писакой, а я всё пялился на этот нож, хотел огрызнуться, но понимал: если сделаю это, он одним быстрым движением — таким быстрым, что и заметить не успею — всадит в меня этот клинок, разделает как свинью. Эти ребята вечно куда-нибудь или в кого-нибудь втыкали свои ножи.