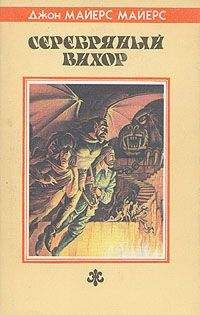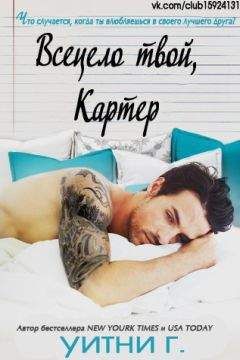Дмитрий Ахметшин - Туда, где седой монгол
Каким-то образом она умудрялась не натыкаться на деревья, не попадать ногами в ямы и коварные барсучьи норы. Навязчивое, как щекотка, чувство соседства заранее давало ей знать о препятствии. Керме смущённо улыбалась окружающим её духам, прижимая к животу шапочку, протискивалась мимо них дальше.
Она шла и шла, отмеряя шагами вздохи земли. К пяткам приставали мёртвые листья, и путешествовали с ней, пока не приходило время освободить место для следующего путешественника.
«Видела бы бабушка, что я сейчас делаю», — подумала Керме. — «Как ловко я пробираюсь по чаще, и как располагаю к себе многочисленных её жителей».
Постепенно голод завладел всем пространством в её голове, а заодно и желудком. Ещё некоторое время Керме шла, вспоминая последнюю съеденную лепёшку, а потом подумала, что хорошо бы раздобыть здесь молока. Или какого-нибудь мяса. Или хотя бы ягод.
— Где бы нам достать еды? — подумала она, обращаясь к Растяпе. — Хорошо бы вяленого мяса.
Ей вдруг послышалось, как Растяпа подвигал челюстями. Нет, не то. Как же такое может послышаться?.. Вот, на самом деле это в чреве что-то заворочалось и толкнуло его с той стороны.
А потом раздался голос:
— Я не ем мяса.
— Кто здесь? — спросила она уже вслух и насмерть перепугалась собственного голоса.
Вокруг всё оставалось по-прежнему. Будь здесь человек, любопытные ушки донесли бы о нём сразу.
— Это я. Я не ем мяса. Но тебе хорошо бы поесть.
Керме попыталась понять, слышит ли она голос в своей голове или он доносится откуда-то ещё. Впрочем, иногда ей казалось, что весь мир с его многочисленными обитателями существует только в её голове.
— Ой, извини, — сказала она. — Я не имела ввиду бараньего мяса. Хотелось бы хотя бы вяленой конины…
— Я не ем мяса совсем. Я бы поел травки. Или листочков. Если можно, не горьких и не сухих.
— Ты можешь говорить?
Голос возмутился.
— Я живу и думаю. Значит, наверное, я могу как-то общаться.
— Кто ты? Ты мой сын?
— Пока ещё неродившийся. Знала бы ты, как здесь тесно.
Пока Керме, вытянув губы трубочкой, придумывала, как бы облечь словами вопрос, который занимал сейчас всё её существо, голос напомнил:
— Ты хотела меня покормить?
Травка! Они же теперь, наверное, одно целое. Что мешает ей поесть травки и листиков? Вряд ли по осени они будут очень сочными, но такое время года куда лучше любой летней засухи.
Керме опустилась на колени. Почва каменистая и стремится всё время вверх. Среди голышей и проплешин земли с разбегающимися между пальцами жуками, Керме обнаружила пучки дряхлой травы. Ещё над головой качались целые ветви с остатками листвы, а по правую руку — колючие кусты ежевики. Ягоды уже кончились, но листья пахли довольно аппетитно. Девушка каким-то образом всё это чувствовала.
— Какие лучше? — спросила она.
— Вон там, слева и чуть вперёд, я чую замечательные лопушки.
Ну конечно. Керме их тоже чувствовала. Она проползла немного вперёд и захватила губами большие листья. Распластавшись прямо на земле, жевала, думая о голоде и о Растяпе.
— Почему ты не говорил раньше? — спросила она с набитым ртом.
— Я собирался попросить тебя не спать на левом боку. На правом или на спине мне удобнее.
Керме кивнула и подождала ответа на свой вопрос, поглощая траву и не чувствуя вкуса. Но его не последовало. Так же, как и возник, голос зарылся в глубины её тела, как рыба в ил.
Она пошла дальше, чувствуя, как недоумённо бурлят желудочные соки. Что это ты нам подсунула, хозяйка? Опять траву?.. С их бурчанием в глубине сознания медленно просыпались воспоминания.
Калечных детей в то время рождалось мало.
Керме оставили и со временем убеждались, что оставили не зря.
— Ты родилась слепая, как крот, но эта слепота забросила в твою голову какие-то знания. Такие, которых нет даже у шаманов, — говорил ей Шаман.
В семь лет она серьёзно заболела. Лежала, закутанная в одеяла, в шатре, и женщины, подходя каждую свободную минуту, качали головами и ужасались наперебой, какая она красная. В лёгких образовалась земля и при каждом выдохе выходила наружу, пачкая губы.
Кости ныли, мышцы истончились, как тетива лука. Изнутри всё горело и сочилось слизью. Даже моча куда-то пропала. Зато внезапно появились силы стремиться наружу, неважно, ночь ли там была или догорал, как головёшка в костре, день. Керме больше не чувствовала разницы. Она просто хотела к овцам, хотела ковыряться в земле, выискивая вкусные травки и срывая с кустов ягоды…
Нет, не так. К верёвке на шее, на которой болтался колокольчик, будто бы прицепили поводок и теперь настойчиво за него тянули. Шнурок натирал шею, и Керме в бреду мерещилось, что шею ей щекочет ковыль.
— Сбереги нас, бесконечная степь, согрей нас горицвет, куда же ты собралась! Там холодно, так, что даже кузнечики не отказались бы от такого шатра, как у тебя!
Её подхватили под руки, в очередной раз закутали в одеяло, и девочка, вынырнув из бреда, запоздало удивилась: «я что, пыталась убежать?..»
И после какой-то попытки ей это удалось. Была уже глубокая ночь, и скрипела под ногами единственного часового земля. Храп и дыхание женщин скользнул по краешку сознания, качнулся, задев волосы, полог, и вот наконец свежий воздух, ночной простор, перемежающийся сочащимся из аилов теплом. Керме встала на четвереньки, рванула в темноту, безошибочно определив, в какой стороне стояли овцы.
Когда её вновь поймали, она даже не думала сопротивляться или ещё куда-то бежать. Лежала среди овец, свернувшись калачиком, с вымазанным землёй ртом. Землю эту вычистили у неё потом из-под ногтей и из отворотов халата.
— Что ты делала?
Народу всё прибывало. Овцы, разбуженные суетой, стали перемещаться подальше.
— У меня болел живот.
Керме сонно потёрла глаза, встала, опираясь на руки женщин.
— Конечно, болел! Ты выглядела почти как растоптанная лошадью лягушка!
— Больше не болит.
— Не болит?
Девочка и правда выглядела гораздо более здоровой, хоть и очень грязной.
— Я поела разных травок. Лошадиный чебрец вот. И такую маленькую травку, похожую на лягушачью лапку. И ещё что-то. Много.
— Откуда ты знаешь, что нужно было съесть? Это Шаман тебе сказал?
— А что Шаман? Шаман сам иногда кушает землю. Но клянусь, его животу от этого становится только плохее.
Шаман был тут как тут. Принёс перед собой, судя по звукам, свой огромный живот.
— Нет, я сама, — лепетала Керме. — Овечки едят корешки, когда болеют.
Бабка, уперев одну руку в бок (второй при этом бережно поддерживала Керме), повернулась к Шаману: