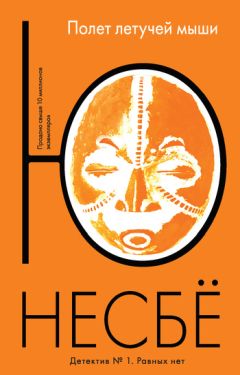Валентин Маслюков - Побег
Правда, курившая у открытого окна женщина с опухшим лицом выказала некоторое любопытство. Недолгое, впрочем, — внимание ее отвлек далекий заунывный крик, который слышался где-то там, поверх крыш. Небритый мужчина из глубины комнаты отстранил женщину, попутно отняв у нее трубку, и высунулся слушать.
— Поплеву, кажись, ищут, — молвил он некоторое время спустя не без сомнения.
— Это какого Поплеву? — спросила оттертая от окна женщина.
— Иди, иди! — буркнул мужчина и с треском захлопнул обтянутое драной мешковиной оконце.
Ошалевший от смены впечатлений Поплева, казалось, не твердо помнил и собственное имя. Он глянул на распростертого Ананью, уставившегося ввысь недвижными, побелевшими глазами. Ананья не выказывал жизни, но и мертвее как будто не становился — сколько можно было понять, потряхивая его для испытания, — оставался он все в том же межеумочном состоянии «хоть брось!» До этого, однако, дело еще не дошло. Поплева вдруг подхватил тело под мышки, вскинул на спину и трусцой побежал по лестнице, заторопившись за донесшимися сюда перекатами барабана.
Лестница вильнула налево, потом направо, спутавшись по дороге с совсем уж непотребным переулком. И когда Поплева, отдуваясь от тяжести на плечах, отыскал подходящий перелаз, барабан рассыпался дробью где-то за спиной. Нисколько не помедлив, Поплева повернул назад, туда, где различались бессвязные вопли глашатая, и потерялся в заплутавшем среди теснин эхе.
Намаявшись с мертвым телом Ананьи в тупиках и уводящих не туда улицах, Поплева опознал между крышами семиярусную, сплошь составленную из сквозных окон и арок башню соборной церкви. Он стал держать на примету, не обольщаясь более барабанами и придурочными выкликами глашатаев.
В конце концов он был вознагражден за упорство и выбрался на просторную площадь, посреди которой, окруженный порядочной толпой зевак, завывал государев вестник.
— …И тому доброму человеку, что сообщит нам о судьбе названного отца нашего любезного и досточтимого Поплевы, положена будет щедрая наша награда! — заключил возвышавшийся над толпой дородный мужчина в высокой круглой шапке с пером. Он мало походил на известного Поплеве колобжегского глашатая, превосходя своего городового товарища настолько, насколько столица вообще превосходит по всем признакам прочие города и веси страны. Это был хорошо одетый, представительный господин с окладистой бородой, роскошными усами и необыкновенно зычным, переливчатым голосом — особым, столичным голосом, вероятно.
Презирая любопытство зевак всей своей важной повадкой, (что было даже и удивительно, если принять во внимание, что это были все ж таки как никак столичные зеваки), глашатай принялся скатывать лист, потом небрежно ударил в заброшенный на бедро барабан.
— Я могу сообщить о судьбе досточтимого Поплевы! — запыхавшись от спешки, воскликнул Поплева.
Дородный глашатай без всякого одобрения оглядел всклокоченного самозванца с мертвым телом пьяного человека на закорках.
— Ты можешь сообщить о судьбе названного отца нашего? — уточнил он тем же раскатистым голосом и вернулся взглядом к дохло повисшему головой Ананье.
— Могу! — подтвердил Поплева, полагая более безопасным и надежным выступать в качестве свидетеля и доносчика, чем самого Поплевы.
— Возлюбленного тестя нашего? — спросил глашатай, нисколько не смягчаясь.
— Надо полагать, возлюбленного, — пробормотал Поплева.
— Почтенным ремеслом которого был вольный промысел морской рыбы? — придирчиво продолжал глашатай, не минуя взглядом безжизненного тела Ананьи.
— Он был рыбак, — подтвердил Поплева, испытывая известную неловкость говорить о себе самом в прошедшем времени.
Но глашатай удовлетворился этим, оставив сомнения при себе.
— Тогда пойдем, — сказал он, не особенно примиренный. Внутренние возражения его выдавали брезгливая складка губ и важный поворот головы. А более всего сказывались они в том, что глашатай ни разу не обернулся на спутника, пока не пришли они все к тому же Чаплинову дому, где стояла у подъезда стража, пропустившая и глашатая, и Поплеву, и даже совершенно не уместного во дворце мертвяка.
Тем временем встревоженный донельзя Дивей ожидал государыню, чтобы шепнуть ей два-три слова наедине.
Что? — заглянул он в очередной раз в преддверье библиотеки, где томились две девушки и неизвестный Дивею придворный чин. Сенная девушка Лизавета, на которой остановил он вопрошающий взор, оглянулась на подругу и поднялась к выходу, стараясь не выказывать того удушливого волнения, которое вызывало у нее появление молодого окольничего. Она нашла его в боковой комнате, где Дивей нетерпеливо ощипывал растрескавшийся лист фикуса.
— У государя на коленях, — молвила Лизавета, обратив к юноше свое округлое лицо. И добавила, предупреждая вопрос: — Только что я глядела. Целуются. Я не могу соваться туда каждый час.
Полнолицая красавица с налитыми плечами, Лизавета носила тяжелые свободные платья, открытые на груди и на спине, а голову венчала округлым тюрбаном горячего багряного цвета, особый жар которому придавало золотое шитье.
— Ты должна мне помочь, — сказал Дивей, отворачиваясь. — Я должен видеть государыню тотчас, как только станет возможно.
В ухватках его сказывалась готовность свернуть на свое всякий час и в любом месте разговора.
— Но что случилось? — спросила она низким, теплых оттенков голосом. Дивей не отвечал, пощипывая фикус. А девушка перебирала гриф и деку круглой мандолины, которую прихватила с собой, когда покидала библиотечные сени. — Ты уже не любишь меня? — сказала она с каким-то непостижимым простодушным удивлением.
Дивей раздраженно покосился на мандолину, слабенький звук случайно тренькнувшей струны заставил его передернуть плечами.
— Тогда на празднике в Попелянах… Не знаю, я готова была княгиню убить, — сообщила Лизавета все с тем же, никогда, казалось, не изменявшим ей добродушием.
— Напрасно. В высшей степени неосмотрительно. Это было бы государственное преступление, — возразил Дивей, бросив недобрый взгляд на мандолину.
И еще погодя юноша болезненно вздрогнул, но не от мандолины уже, от поцелуя — от едва слышного, исподтишка прикосновения влажных губ — в шею.
— Я в опасности, — сказал Дивей, помолчав в ожидании нового поцелуя. — В большой беде. Не удивлюсь, если и жизнь моя под угрозой.
Жалобно брякнула мандолина, выскользнув из расслабленных рук.
И почти тотчас тихо приотворилась дверь, впустив круглую голову с острыми усами — это был Бибич, дворянин окольничего Дивея.