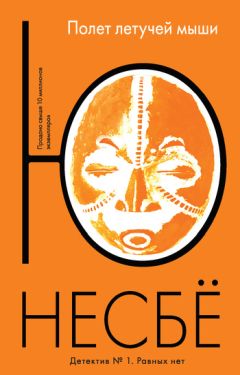Валентин Маслюков - Побег
В самом деле, ничего иного не оставалось. Кувшинноголовый безостановочно колотился, не нуждаясь для поддержки своего неестественного возбуждения ни в каком противодействии или в противнике. Порочный Мальчик, порозовев щеками, очухался уже настолько, что почел за благо переползти под стол, ни с кем не вступая в пререкания. Кирпичная Рожа вяло кряхтел в углу. А тощий малый в смуром кафтане, тот самый, что пал жертвой кабацкой потасовки еще до появления Поплевы, шевелился на полу — и прибитый, и придушенный, и затоптанный. Он мычал в потугах что-то осмыслить и шарил вокруг себя.
— Сдается мне, тут нечисто, — заметил собеседник Поплевы. — О-о!
Они отшатнулись, потому что Кувшинное Рыло, отличая голос, рубанул наугад и продолжал бы крушить стол, если бы не споткнулся, — падая, он высек из каменного пола искры.
И чудом только не отсек руку тупо копошившемуся рядом малому в смуром кафтане. Поплева спрыгнул, за ногу оттащил того от опасности, в ворохе пыли, сгребая рассыпанную по полу мяту, выволок доходягу на порог и вместе с бросившимся на подмогу косоглазым вынес из харчевни на волю, в расступившуюся толпу. Вдвоем повели они жертву кабацких страстей прочь, отбрехиваясь от расспросов.
Случайный товарищ Поплевы, косоглазый молодой человек, был прежний Поплевин провожатый, которого тот непременно бы признал, когда бы лучше разбирался в лазутчиках да зорче озирался, вступая в город. Теперь уж сама нужда заставляла Поплеву настороженно вертеть головой — да не туда глядел!
Скоро они попали в гнилую щель между домами, но услужливый молодой человек знал выход и не затруднился его показать. Доходяга в смуром кафтане едва волочился, голову обронил на грудь и никакими признаками осмысленности своих спасителей не баловал. Наконец они остановились, безмолвно вопрошая друг друга: что дальше?
Сползающие по склонам оврага улочки превращались здесь в сплошные лестницы, которые петляли в нагромождениях беспорядочных пристроек под грубыми сланцевыми крышами. Негде было тут задержаться глазу, чтобы выделить хоть одно вполне законченное строение, которое не служило бы добавлением, приделом к другому и еще более непостижимому сооружению, что и само лепилось в край и торец чего-то. Среди разбросанных без порядка кривых окошек нельзя было встретить и одного ладного, тем более двух похожих! А в довершение картины противоестественно вознесенная на крышу коза пощипывала чахлый кустик, произраставший прямо из бока пристроенной еще выше халупы.
— Куда ж нам его девать, бедолагу? — пробормотал Поплева, немало ошеломленный разнообразием открывшихся перед ним видов.
— Ладно, ребята, я бы уж сам, — заговорил тут слабым голосом доходяга. Поплева нагнулся, пытаясь заглянуть в завешенное упавшими космами лицо.
— Да где ты живешь?
— Лады, ребята, лады! — упорствовал в нежелании понимать несчастный. — Сколько раз зарекался… Нехорошо пить, ребята, не пейте, ребята, не надо…
— Так что, сам дойдешь? — сердито спросил Поплева, слегка обиженный философическими изысканиями спасенного. Ибо из всех видов неблагодарности особенно безнадежна, по видимости, неблагодарность тупая.
— Да уж верно говорят, кто пьян да умен, два угодья в нем, — многозначительно заметил тут Поплевин товарищ, молодой человек с глазами врозь. И начал высвобождаться от лежащей на плече руки. — Прощай, братец. Не моего ума дело, на трезвую голову-то и не сообразишь, отчего эти наладились убивать этого, а этот тех покрывает.
— Да ты про что? — начал уж свирепеть Поплева, которому изрядно надоели недомолвки и экивоки.
— Этот-то, выходит, государев тесть, Поплева, — остановился молодой человек с глазами врозь, каковая особенность позволяла ему глядеть и на того, и на другого сразу, то есть держать двух Поплев за одного. — Кабатчик сказывал. Да что-то не сладилось. Вот люди окольничего Дивея и хотели его прибить.
И, покосив на прощанье глазами, пигаликов лазутчик легко, как это свойственно человеку с чистой совестью, поскакал вниз по ступенькам.
Недоверчивое изумление Поплевы, которое естественно следовало за ускользающим лазутчиком пигаликов, обратилось теперь своим чередом на Рукосилова лазутчика. Но и этот ускользал. Захрипел при осторожной попытке Поплевы его встряхнуть — глаза закатились, на посиневших губах проступила пена.
И Поплева остался ни с чем. Никакой пользы нельзя было извлечь из бездыханного, костлявого и тощего мертвяка, в какого обратился вот только что еще живой лазутчик.
— Да это Ананья! — воскликнул Поплева, повторно его встряхивая. Увы! голова лазутчика безучастно болталась.
Несомненно, это и был Ананья. После памятного столкновения в Колобжеге для Поплевы прошло всего три месяца — там, где весь остальной мир считал годами. И тот день был для него словно вчера: Ананья… крошечный волшебничек Миха Лунь с роковым Асаконом…
Лазутчик казался мертв. Совершенно мертв. Насколько может быть мертв знающий свое дело любитель. Нужно заметить, что среди достоинств и умений Ананьи не последнее место занимало искусство обмирать до полной безжизненности. То было одно из немногих развлечений, которыми Ананья разнообразил свою скудную, полную трудов жизнь. Может быть, в настойчивых упражнениях этих проступало нечто большее, чем простое любительство, — неудавшийся колдун, безнадежно не способный к созидательному волшебству человек, выказывал тут свои потаенные притязания. Бездарный волшебник Ананья умел не много, но то, что умел, потрясало. Самоубийственное его искусство ничего не стоило в смысле каких-нибудь положительных последствий, но много ли волшебников более счастливых в творчестве могли похвастать таким талантом самоуничтожения? В этом и черпал Ананья свое достоинство.
Полуприкрытые глаза его глядели бессмысленно, зрачки расширились. Безвольная голова с давно немытой гривой падала, синюшные губы пузырились мыльной слюной.
Беспомощно оглядевшись, Поплева положил тело вдоль каменной ступени и припал к груди — сердце не билось.
Поплева выругался. Прохожие спускались по лестнице и переступали тощие ноги Ананьи, едва глянув. Здесь, на Вражке, удивительное искусство Ананьи не производило большего впечатления. Ни на кого, кроме огорченного до раздраженности Поплевы.
Правда, курившая у открытого окна женщина с опухшим лицом выказала некоторое любопытство. Недолгое, впрочем, — внимание ее отвлек далекий заунывный крик, который слышался где-то там, поверх крыш. Небритый мужчина из глубины комнаты отстранил женщину, попутно отняв у нее трубку, и высунулся слушать.