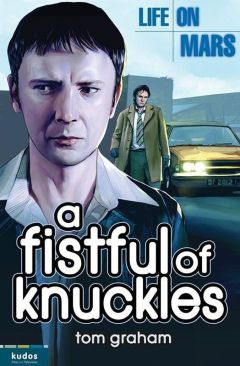Татьяна Мудрая - Карнавальная месса
— Вы… бы… отдали мне часть поклажи, — галантно предложил я.
— Я восточная женщина, а у нас так: мужчина впереди соблюдает путь с кремневым ружьем на плече и саблей за поясом, а его жена идет сзади в безопасности. Конечно, и поклажу ей нести: с грузом-то как ему обороняться?
Еще одна перебежка. Я успеваю заметить две вещи: асфальт здесь расчерчен продольными белыми полосами — и в мешке Мириэль звучно булькает нечто жидкое и, судя по резонансу, налитое с большую емкость.
Снова ввысь. Ползуны по скалам, по голым, косо взрезавшим поверхность гранитным ступеням. Я ободрал себе колени и вот-вот начну сдирать ногти, язык комом стоит поперек глотки, другой ком в носу — невероятно смрадного, угарного и в то же время леденящего запаха. Наконец, я перешел из согнутого положения в горизонтально вытянутое и проныл, что больше не могу, пусть меня хоть зарежут. Почему, ну почему тут так тошно — я ж человек сугубо тренированный?
— Отдохнем немножко, — бодро сказала моя Дама. — Только не воображайте, что я вам попить выдам. Сами раздуетесь, как тот бурдюк. Нате мой платок, оботрите губы и пососите, я его как следует вымочила. Я знаю, как полагается. Восточная женщина, как-никак.
Я еще обтер тонкой тряпицей лицо и шею и почувствовал себя немножко более живым.
— Восточная женщина — это цыганка, что ли? (Во мне забродили некие подкорковые воспоминания.)
— Почетная цыганка. Еще почетная еврейка, — ответила она с гордостью. — А еще поочередно австралийка, папуаска и лицо кавказской национальности. В зависимости от того, на какую расу в данный момент бочку катят.
— В гражданку Папуа — Новая Гвинея вы записались, когда вся Европа стала доказывать, что они недопроизошли от обезьяны и людей едят.
— Уловили самую суть. Но еврейка и цыганка я перманентно.
Она поднялась с пригорка — куда тяжелее, чем раньше, будто ей прибавилось лет.
— Вот что, сынок. Ты не стесняйся. Я пойду вперед, а ты цепляйся за меня. Дальше силы понадобятся не человеческие, даже трансфертная полоска не шибко поможет. Еще три витка надо пересечь, а на них вот-вот громада задвижется.
Дальше мое сознание меркнет. Снова скалы, уже голые, и зловоние на липких черных дорогах, вдоль по которым проходит волна ритмической дрожи. Мы ползем через них, как муравьи по сковородке, а по скалам — как рептилии, вжимаясь всем телом.
— Бросьте булыжники, — я вспоминаю про те детские подарки. — Ведь погибнем, и из-за них в первую очередь.
— Малыш, погибнуть-то мы не сумеем, как ни старайся, — говорит она тихо. — Так что ино еще побредем — доводить наше дело до конца.
И вдруг, совершенно неожиданно, мы выскочили из-под сводов на вольное пространство — и на нас брызнула ярчайшая синева. Мы были свободны: в отрепье, исцарапанные, полузадохшиеся и наперекор всему живые — живые в каком-то более полном смысле, чем тот, что принят в человеческом языке. Воздух был сладок и нежен, как сгущенные сливки. Трава и здесь была выгоревшая и пегая, но в ее длинные пряди вплетались мелкие колокольчики, гвоздики и эдельвейсы. Тропа повернула к небу еще круче, но угловатые камни держались в ней крепко и служили нам ступенями. С вершины, еще пока невидимой, срывался ледяной ветер, ерошил траву, и от него делалось весело на душе.
— Проскочили, — с удовлетворением сообщила дама. — Близ той стороны ветра смоляных чучелок не встретишь, одни альпийские луга пойдут.
Мы уселись на глыбу, плоскую сверху, вытрясли из башмаков щебенку, а из носков песок. Напились вдосталь. У нее в цельнометаллическом термосе оказалась не вода, а горячий и терпкий чай, который мы пили с кусковым сахаром — самое то, что было нам сейчас нужно.
— Еще бы джемпер для полного счастья, — размечтался я. — Правда, госпожа Мириэль, вы же что хотите, то и имеете — платок ваш тогда не в желтом чаю был вымочен, а в голубой реке.
— Что нужно, то и даю, — рассмеялась Дама. — К чему вам трикотаж — о солнышко погреетесь, оно здесь жаркое. По снегу голышом иные бегают.
А я… я так отвык там, внизу, от солнечного света, что и не заметил его: маленький изжелта-белый с голубым, ослепительный диск над самой головой. Солнечные зайцы резвились у меня перед глазами, зябкое тепло щекотало кожу, и трава, колышимая ветром, была как длинные волосы. Тогда я увидел.
Я стою ранней весной у стены нашей усадьбы. Она обшита дощечкой, крашенной суриком, краска слегка потускнела и местами пооблупилась, но хуже от этого не стало: стены слились с садом, как сад — с лесом ближних предгорий. И все в округе по-прежнему называют нас «Дом Восходящего Солнца».
Деревянными грабельками я снимаю с земли волглую прошлогоднюю покрышку. Снег уже почти стаял, только в лесу под соснами тяжелые, крупитчатые сугробы, но свежая трава не может подняться даже на тех редких местах, где старая подсохла и пылит. Я сдираю побуревшую мертвую кожу, в которой она перезимовала, впав в долгую спячку, и стрелки яркой зелени рвутся из нее на волю.
— Куда ее, в костер, что ли бросим? — спрашиваю я солидно.
Мама смеется:
— Дыму-то будет, дыму! Нет уж, давай один сушняк сожжем, я у вишен старые ветки срезала да яблони прочистила, а уж из малинника сколько натаскала — костер до неба поднимется. А для травы мы выкопаем яму и захороним ее вместе с сухими листьями и навозом. Пусть гниют не торопясь, — удобрение для земли полезнее, чем огонь!
Она выпрямляется, опершись о заступ, и откидывает светлую прядь со лба. Она невысокая, но сильная и гибкая, как старинный клинок, моя мама, и будничный халат смотрится на ней парадной робой: так же темен и так же подпоясан — широко и туго. Потом мы вместе носим на граблях стожки прелого сена, утрамбовываем, присыпаем землей. Я подбрасываю мелкие щепочки и сучки в костер, прикармливаю его, он охотно ест у меня с рук и гудит, от него натягивает пахучим дымом. Если повернет ветер, сразу глаза заслезятся, но это только смешно: игра с домашним зверем.
И радость мне от теплого дыхания земли, и от просини в легких тучах, и от того, что вот сейчас мы войдем в дом и мама будет рядом весь остаток дня и вечер, и еще день, и еще долгую-предолгую неделю. Будет отдыхать в низких и темноватых комнатках, где на окнах — льняные занавески, на занавесках — сады: горшок с мальвой — петух, горшок с тюльпаном — курочка. И все это вышито плотным восьмиконечным крестом, черной и красной нитью. На крашеных полах настланы тряпочные половики, я люблю угадывать, какой лоскут остался от какой портновской работы; темные полосы чередуются со светлыми, внутри каждой полосы своя пестрота. В честь праздника суровые чехлы на стульях и тахте с валиками и подушками постираны добела, они тоже расшиты крестом и пухлой двусторонней гладью. Тетушка и картины вышивает, и коврик над моей кроватью сделала — чуть коротконогий олешек на поляне, весь из нитяных торчков. Если постараться, можно вытянуть короткую ниточку — я люблю так развлекаться, если дневной сон ко мне не идет. Высокая изразцовая печь голландского вида, местной работы, на кафлях — один и тот же голубой узор: мельница над замерзшим каналом, конькобежцы с трубками во рту, конькобежки в шалях и с корзинами. Печка топится, прыгают в открытом зеве язычки огня, и мама в своем темно-синем муаровом одеянии с гербами и стоячим высоким воротом, с золотным кушаком, через который продеты цепочки с костяными фигурками, кажется заморской птицей, павлином или фениксом. Огненные змеи вьются по шелку, встречаются со своими рукодельными сестрами и падают вниз, на туфли из блестящей мягкой кожи — мама переоделась напоказ мне и нянюшке.