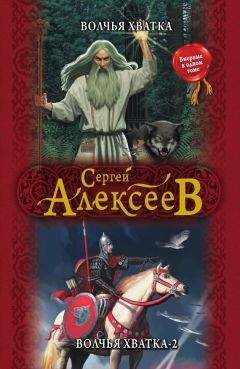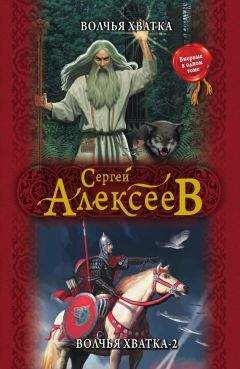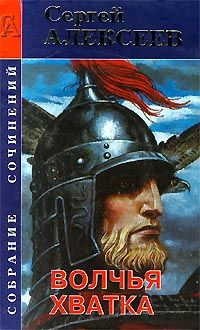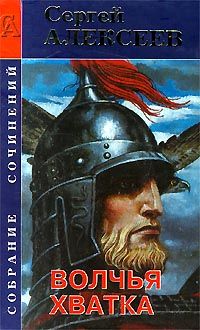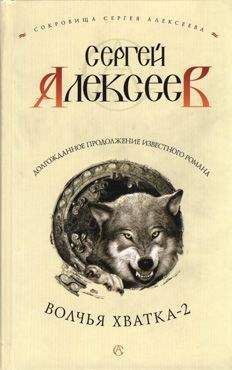Сергей Алексеев - Волчья хватка. Книга 3
И обо всём этом он не шептал окружению, не говорил доверительно своим приближённым — кричал во весь голос с амвонов и папертей, словно юродивый. Добро, что старческий голос был слаб, московский люд не внимал и зрел лишь воинственный его образ с поднятой десницей, недоумевая: мол, что же случилось с митрополитом, обыкновенно мудрым и миролюбивым? То ли проклятья кому шлёт, то ли к чему–то призывает. И спрашивали вразнобой:
— Что сказывает митрополит?
— О чём толкует святейший?
И в недоумении вертели головами.
Но те, кто рядом с ним стоял, всё слышали. Иные радовались столь ярким переменам, иные ужасались его пророчествам, и молва о просветлении митрополита широко растеклась не только по Руси, но и выплеснулась за её пределы.
Алексий стал неугоден и патриарху, и Орде, и уж тем паче Риму и Кафе. А когда супротив одного владыки поднялся весь христианский мир, вкупе с супостатом, который вот уже без малого полтораста лет терзал и грабил Русь, уберечь его от тайной расправы было мудрено. При митрополите существовал ближний круг иерархов, схимников, рясофорной охраны, да и обитал он в Чудовом подворье, в московском белокаменном кремле, что выстроил своими стараниями. Но у Киприана было слишком много серебра и злата, дабы надеяться на неподкупность стражи. Невзирая на потуги великого князя очистить стольный град от тлена измены, её мертвящий дух сквозил отовсюду. В Руси стало привычным вероломство удельных князей, ищущих выгоды от земель соседей, однако и митрополиты, им уподобившись, делили между собою власть и доходы с митрополий. А под ними епископы, взирая на владык, приноровились стяжать блага в чужих епархиях и спорили друг с другом. Алексий, будучи судьёй церковным, вдоволь испил зловонной мерзости из этой чаши распрей и ведал лучше иных, что означает существовать в неволе и безверии, ею порождённой. Поэтому, став немощен телом, допускал к себе лишь инокинь из Алексеевской обители, пищу и питьё принимал только из их рук, и то прежде просил сестёр вкусить и испить.
Игумен редко покидал обитель, но тут собрался в одночасье и поехал в Москву, с собою взяв несколько иноков из числа араксов. Поехал он не в крытом санном возке и не в медвежьей полости—в розвальнях простых, в овчинном тулупе, на охапке сена, да ещё сам в руки вожжи взял. После отъезда путного боярина морозы спали, запуржило, перемело дорогу, однако скоро встречный обоз довольно промял её, набились колеи, и потому катили с попутным ветерком.
В Братовщину прибыли затемно, однако ночевать не стали, в свой скит завернули на Склабе, там поменяли лошадей и далее поехали. Разбойных людей не опасались, ибошалившие по дороге шайки даже ночью, впотьмах, троицких иноков и их коней чуяли нюхом и бежали прочь. А жёны разбойных, качая в колыбелях своих чад, стращали, мол, не будешь спать, поедет мимо черноризник, тебя заберёт, тятьку твоего и деда своими кулачищами побьёт.
Иное дело баскачьи призоры, стоявшие на всех дорогах. Ордынцы в сёлах и городах редко показывались, раз–два в год лишь наезжали за данью либо недоимками прошлых лет. Если дома сидеть, то вроде бы и не досаждают особо, но всякое передвижение под надзором держалось строго. Сами будучи вольными, татары знали, как смирить и обезволить Русь, показывая, чья власть довлеет на просторах. Довольно было перекрыть пути, поставить всюду свои заслоны и всякому проезжему и прохожему спрос учинять, дорожную грамоту требовать либо малый откуп за проезд. Вроде бы дело пустяшное, но каково унижение! Каково глумление, коль урезать жажду движения, стреножить, окалечить весь народ!
На московской дороге бывало по три баскачьих призора, причём два из них не озоровали, но всякий обоз останавливали, вызнавали, кто едет, куда и по какой нужде, досматривали, что за товар везут, чаще выпрашивали некие безделицы, а то и покупали за грош. А третий непременно лихоимствовал, что по нраву придётся, силой отнимали даже коней. И все они любопытствовали, коль попадались подводы с железным кованым товаром. Если узрят доспех, кольчуги, мечи, топоры, навершия копий, стрелы и прочее оружие, тут уж всё переберут, пересчитают, но не отнимут–себе отметку сделают и отпустят. Так оружейные кузнецы и бронники, давно изведав их свычай, баскачьи призоры либо стороною объезжали, либо прятали в возы с сеном, коих шло по дорогам многие сотни, либо пускались на иные хитрости.
Ордынцы чуяли приближение грозного часа, считали силу русскую. И верно, чутьём ли, животным нюхом или молвой насытясь, слухами напитавшись, не трогая духовных лиц согласно ярлыку митрополита, следили за их передвижением, как за оружием. Поэтому игумен с братией, скорбя и негодуя, переоделись в охабни, порты да валяные пимыи, дабы баскачий нюх отбить, улавливающий ладан, вкусили мочёной черемши сполна. Дыхнёшь разок, татарин с ног валится и отползает.
—Кабахетлек! — кричит. — Пычраклык! Бук! Бук! То есть будто мерзость, грязь, хотя от самого разит, хоть нос зажимай.
Бани не ведают, всю зиму спят, не раздеваясь, в своих юртах, да ещё салом мажутся от холода. Вот так друг друга уже полтораста лет на нюх не переносили и свыкнуться не могли. Но опять же какой призор встретится на дороге: баскаков часто меняли, чтоб не якшались с проезжими, дружбы не заводили. Иные попадутся таковы, лишь только по одежде и узришь ордынцев. Налицо вроде русины, и бородаты, и взоры светлые, да говорят чудно, однако же имена и повадки татарские. Кто побывал в Алтын Орде и Мамаевом стане на Днепре, кому доводилось ездить в Сарай на Волге, сказывали, народ Улуса Джучи разноплеменный, сшит, ровно лоскутное одеяло, и до великой замятни вера у всех была разная. Кто каменным болванам поклонялся, кто огню, кто солнцу, и все друг друга терпели. Но когда хан Узбек принял магометанство, так и начались распри да междоусобья — замятня, одним словом.
Митрополит Алексий у татар бывал подолгу, потому и ратовал за мир с Ордой. Дескать, она сама, подобно гаду ползучему, укусит себя за хвост и сгинет от собственного яда. Мол, из–за Камня идёт на Мамая хан Тохтамыш, поставленный Тимуром, и уже многие области за Волгой повоевал и покорил. Дай срок, схватится с темником и победит его. А победивши, возомнит о себе и восстанет супротив своего покровителя восточного, и в великих битвах между собой они покалечат или вовсе убьют друг друга, а Русь таким образом освободится от неволи.
Пожалуй, Алексий так бы и жил в заблуждениях, теша себя и паству обманчивой надеждой, коль не насмелился приехать к ослабленному старцу– схимнику и ночь с ним скоротать в его келейке. Наутро не пожелал даже проститься с игуменом, покинул Троицкую пустынь и словом не обмолвился, о чём беседовали с отшельником. Но Сергий ведал о причине столь скорых перемен митрополичьих, ибо когда–то сам был просветлён Ослабом. Повоевав Мамая, позрев на слабую Русь, хан Тохтамыш, потомок Чингисхана, и вовсе её подомнёт под себя, как медведь неловкого охотника. И данью таковой обложит, что последнюю рубаху придётся снять и в Орду снести. Питали одного змея, станем питать иного, многоглавого. А потому не след ждать, когда гад пожрёт себя, а вызвать его на великую битву. Мамай угоден Кафе, Риму и всему миру той стороны, где западает солнце, ибо вся его добыча — суть, товар, кровь, питающая плоть ненасытную. Запад страшится Тохтамыша и будет уповать на то, что Русь опять встанет заслоном от грозного Востока. Но победа над Мамаевой Ордой остепенит обе стороны света, понудит их признать равной себе.