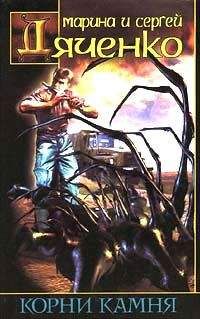Марина Дяченко - Ведьмин век
— Тебя взяли? — спросил парень с нарождающейся бородой на загорелом скуластом лице. — Ты, рыжая… Тебя приняли?
Рыжая девчонка вздрогнула. С некоторых пор она всегда вздрагивала, когда ее окликали.
— Не могу… пробиться не могу.
— Такая слабенькая? — удивился скуластый. — Хочешь, я для тебя посмотрю?
Рыжая кивнула.
— Как фамилия? Лис?
Внизу, у входа, кто-то бранился. Сверху, прислонившись к ступенькам винтовой лестницы, стоял вальяжный юноша в ослепительно белой рубашке. Юноша находил острое удовольствие в том, чтобы стоять двумя ступеньками выше прочих и поглядывать на них, абитуриентов, мудро и устало.
— Эй, Лис! С тебя бутылка шипучки — пляши!..
Девчонка смотрела удивленно. Кажется, не верила.
Где-то наверху, на недостижимой даже для вальяжного юноши высоте, открылись стеклянные двери. И полный мужчина с кожаным плоским портфелем взмахнул, как платочком, белым листком бумаги, и вальяжный юноша поспешно принял бумагу из пухлых рук, вчитался, нахмурил лоб:
— Внимание, информация… Студентам первого курса обращаться по поводу общежития… Военнообязанным студентам явиться в контору пять… Всем студенткам-ведьмам, — юноша невольно понизил голос, и на лице его появилось странное выражение, — явиться к директору лично и иметь при себе свидетельства об учете из окружного управления Инквизиции…
— Ведьм принимают, — зло сказала заплаканная девчонка с развязанной папкой. — Ведьм они принимают… Знаем мы…
На нее поглядели с жалостливым презрением.
Потому что ведьм, на самом-то деле, не принимают никуда.
* * *— Не выдумывай. Ведьмы лишены некоторых гражданских прав — но не права на профессию…
Ивга еле удержалась, чтобы не состроить гримасу. Поразительно, как мало знают большие начальники о жизни, происходящей ну прямо под ножками их высоких стульев.
Говорят, что «Начались воспоминания — встречайте старость». Она, Ивга, заслужила сегодня звание почетной старушки; эти ее воспоминания подобны тряпкам, хранящимся в нафталине под замком. Глупо извлекать их на свет…
И тем более глупо испытывать от этого удовольствие.
Самой противной игрой всегда была для нее игра в откровенные ответы. Потому что приходилось все время молчать, и на нее начинали коситься…
А потом она приспособилась врать. Совершенно откровенно врать в ответ на откровенные вопросы. И ее все полюбили. Поверили…
— Я понятия не имел, что есть такая игра.
— Есть… Особенно когда вечер. Когда девчонок в спальне пять человек, и охота поболтать перед сном… Или когда все немного выпили…
Инквизитор наклонил голову; теперь он сидел вполоборота, и в свете настенного фонарика Ивга видела половину его лица. С опущенным уголком губ.
Собственно, почему она обо всем этом ему рассказывает? Потому что ему интересно?..
Профессиональное любопытство. И сколько же таких исповедей приходится на его нелегкий рабочий день…
Ей почему-то вспомнилась огромная кровать в той его квартирке, поле сражений, покрытое снегом чистого белья.
— А вы так и живете…
Вопрос вырвался сам собой, и, проговорив его до половины, Ивга с ужасом поняла, что сказанных слов не загнать обратно. Слова — не макароны, в рот не запихаешь.
Пауза затянулась. Ивга проглотила слюну.
— Ну? Как же именно я живу?
Ивга обреченно вздохнула:
— Вы так и живете всю жизнь? Я слышала, инквизиторам запрещено жениться…
Она ожидала какой угодно реакции. Насмешки, безучастия, пошлой поддевки, высокомерного отстранения; инквизитор медленно повернул голову, и Ивга пробормотала, оправдываясь:
— Я… спросила лишнее. Простите…
Он улыбнулся. Его, кажется, рассмешил ее страх.
— Ничего особенного ты не спросила.
(Дюнка. Май)Решетка, отделяющая дом от чердака, не запиралась.
В полном молчании они прошли мимо бетонной коробки, где ворочались и гудели моторы двух маломощных лифтов; прошли мимо низенькой двери с навешенным на ручки амбарным замком, взобрались по аккуратно окрашенной железной лестнице и выпрыгнули в сырость весеннего вечера. Двадцать пять этажей не приблизили их к звездам — да тех и было-то всего две или три; по темному небу ползли, постоянно меняя очертания, рваные серые облака.
Когда-то здесь было кафе. Сейчас от него остался только железный скелет пляжного «грибка», брошенный за ненадобностью и потихоньку покрывающийся ржавчиной; старые перила ржавели тоже, и потому Клав не стал к ним прислоняться.
Здесь не нужен был свет. Весь фасад дома напротив залит был пестрой мигающей рекламой, и Дюнкино лицо, различимое до последней реснички, казалось то апельсиново-желтым, то сиреневым, то зеленым, как трава. Клав знал, что выглядит не лучше.
Дюнка улыбнулась краешками губ:
— Цирк…
Клав поежился. Он не боялся высоты, но неожиданно холодным оказался ветер.
— Клав… я… тебя люблю.
Он почему-то вздрогнул. Положил холодные ладони ей на плечи:
— Дюночка…
— Клав…
— Дюн, — он быстро облизал губы, — а что… если бы я умер? Что бы ты делала? Если бы вдруг…
Выражение ее глаз изменилось. Кажется, это был страх.
— Извини, — сказал он поспешно. — Я…
— Ты не бойся, Клав, — сказала она шепотом, и очередная вспышка рекламных огней сделала ее лицо медным, яростно загорелым, как у индейца. — Ты… не… умрешь. Не бойся…
Рекламные огни мигнули; теперь крышу заливал темно-синий свет. И лицо девушки с просительно полуоткрытыми губами сделалось матовым, как…
Как тот барельеф на темном камне надгробия. Клав отшатнулся, но Дюнкины руки сомкнулись вокруг шеи, желая его удержать:
— Клав… не покидай… меня.
Руки разжались. Дюнка отступила, и в новом беззвучном взрыве цветных огней Клав увидел, какими мокрыми сделались ее ресницы.
И резанула острая жалость.
— Я не покину… никогда… с чего ты…
Дюнка отступила. Из глаз ее почти одновременно выкатились две тяжелые капли; она чуть заметно качнула головой. Будто говоря: нет…
— Ты не веришь мне?!
Дюнка отступила еще.
Какой я идиот, яростно подумал Клав. Все эти страхи и колебания… Она ведь понимает. Каково это ей — всякий раз ждать меня и всякий раз бояться, что я — все, не приду больше, перепуган, отрекся?!
— Дюночка, я клянусь тебе всем, что у меня есть. Клянусь жизнью…
Ему казалось, что она ускальзывает от него, будто во сне. Что протянутые руки никогда ее не коснутся, поймают пустоту…
И он облегченно вздохнул, дотянувшись наконец до опущенных вздрагивающих плеч. И притянул к себе, и шагнул навстречу, спеша обнять и успокоить: