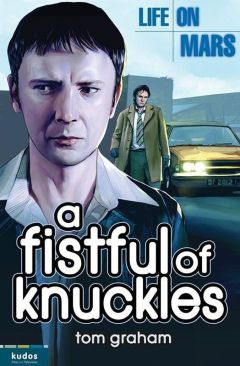Татьяна Мудрая - Карнавальная месса
Господин Френзель повадился ходить на мои занятия, не с целью инспектировать, а просто пообщаться. Единая крыша и один обеденный стол его уже не удовлетворяли, тем более, что дома у меня было сплошное бабство: Агния, из которой выковалась нежнейшая мать, Джанна с вечными разговорами типа «как сыночка назовем», Баубо, что трясла своим замызганным подолом между всеми домами, где кто-то сходился, зачинал, носил и разрешался от уз.
— А вы прирожденный «человек-стрела». Так мы зовем тех, кто пробивает Купол, — сказал как-то господин Самаэль. — Принимаете в себя мысли и все существо другого.
— Телепатить я не учен. Во всяком случае, этого греха за собой не замечал отродясь.
— Я не о том. Вы бессознательно осуществляете «уровень общего дыхания», делаясь ментальным близнецом того, к кому обращаетесь. Или даже тех — это вообще невозможная вещь; до сих пор существовал только один благой Водитель Толп. Вы не догадываетесь, почему мы всех зрелых визитеров понуждаем учительствовать? Помимо прочего, это пробный камень. Вы ладите с детьми идеально, а с нас хватило бы просто хорошего. Ни одного конфликта даже на первых порах, когда я их к вам силком загонял!
— Я думал, это из-за моих бойцовских качеств.
— Полноте, им это нравится, они ожидали, что вы именно с этого начнете свои уроки, но это и все. Их много, и они даже по отдельности не трусы.
— Тогда из-за россказней.
— Конечно. Только почему вы так хорошо угадываете, какую притчу надо выбрать именно сегодня и сейчас?
Я удивился.
— Да никак. Пальцем тычу.
— Никто и никогда не действует вслепую, и особенно тогда, когда ему кажется, что он швыряет костяшки наобум Лазаря. Этому вас должны были обучить в бывшей ханаке Хаджи Омара Палаточника. Вас, как и любого, постоянно направляют. Но главное не это — вы в поисках смысла свободно меняете миры, один на другой и другой на третий.
— Носит меня как дурным ветром! — рассердился я. — Можно подумать, я того хочу.
— А кто хочет, спрашивается? Словом, если желаете, можно попросту поглядеть, что это, собственно, такое — Купол.
Это был соблазн. Все дети там бывали или должны были побывать, все взрослые и пришлые персонажи испытывали себя, более или менее успешно, в искусстве переноса. Одному мне это не светило: никто не рвался снимать с моей черепной коробки запись, от дилетантской пробы сил я сам разумно воздерживался, и единственный способ для меня побывать в здешнем святилище заключался в том, чтобы стать присяжным «психистом». Иначе говоря, согласиться на собеседование и обучение, а потом заплатить за труды других своими целенаправленными трудами. Пока я того опасался и избегал.
…Купол был им только изнутри. Этот гигантский иссиня-черный октаэдр был источен галереями, в которых никогда не бывало естественного света, а ненатуральный был по возможности приглушен. Мы с Френзелем переобулись в неслышимые тапочки, укутались в невидимую ткань, которая почти полностью сливалась с фоном и не умела шуршать, и прошли сквозь галереи и коридоры в центральную часть.
Мы занимали узкий балкон, который проходил по всему периметру зала. Люди находились под нами: обслуга, ассистенты и двое женщин под огромными полупрозрачными тарелками пси-усилителей. Лица сквозь них были еле видны мне и, кажется, незнакомы.
— Псиграмма снимается не на краю бездны, а в начале умственно зрелого возраста, — шепотком объяснял мне мой гид, — что значит для девочки — роды, для юноши — инициация. И куда-то там переносится. Так создается второе, внешнее «я», на которое потом наслаиваются новые впечатления. Тот человек, что остается здесь, ничего о своем звездном двойнике не знает. Мне говорили, правда, что это вовсе не двойник, а удлиненный астрал или там прогрессирующая животная душа, в зависимости от зрелости особи. Перенос получается, если донору есть что отдать, поэтому сами понимаете, как нужно в него это вложить. Реципиент пользуется наркотическими средствами: балинитой, псилоцибинами, галлюциногенами и прочей дрянью.
— Я, во всяком случае, не буду.
— И правильно, те ведь не от хорошей жизни глотают или курят свое заветное снадобье. Вам просто не понадобится, печенкой чувствую. О! Не высовывайтесь, Купол задышал. Посмотрите вверх, если вы такой любопытный.
Я уже видел его краем глаза. Фасетчатый, как глаз насекомого, вывернутый наизнанку, он переливал в себе маслянистые блестки всех цветов радуги. Сетевидный, как брюхо рептилии: он то раздувался так, что ячеи увеличивались, то опадал, насылая вниз фантасмагории, которые в нем отражались, смутные мысли, что разбивались об него, желания, в которых сам боишься себе признаться.
— Начинается борьба, — шепнул Френзель. — Все через него не вытолкнешь, да и не надо: лишнее опадает, как сухой лист, только самое ценное и достойное уходит вверх.
Я молча кивнул. То, что над нами, давило еще сильнее, чем обыкновенное здешнее небо, которое я приспособился как-то нейтрализовать. Я задыхался, как рыба, пойманная в золотой невод. Какое здесь низкое небо, мама, в нем и птицы не летают, услышал я внутри себя детский голосок, — и свернутое, как свиток. А еще оно повисло, как полная рыболовная сеть. Мы разве караси или щуки?
Сеть, подумал я как никогда трезво. Это и есть Сеть моего пустынного мира, которая удрала кверху, чтобы уловлять наши дурные страсти, а если говорить по-простому, на языке десантников, — топить нас в нашем собственном душевном дерьме.
— Что, крепок здешний табачок? — подхихикивал милейший Самаэль. — Сморщились, будто в носу засвербило, а чиха не выходит. Кстати, согласитесь участвовать — будет шанс вашу подругу проработать еще до родов. Баубо говорит — сидит в ней нечто удивительное и для нее опасное.
Я представил, как оказываюсь внизу вместе с Джанной… и выцеживаю из нее и ее младенца их мысли, как делает та женщина-оператор, испытываю наравне с ними обоими их боли и терзания, становлюсь таким же глупеньким зверьком. И испугался этого смертно. А затем именно потому согласился: потому что человек всегда должен возвыситься над своим главным страхом.
Так я добавил к своей поворотной повязке двойную стрелку: один ее наконечник, золотой, торчал надо лбом вверх, тусклое старинное серебро другого ложилось на переносицу. Если учесть, что краски моей ленточки Мебиуса художественно вылиняли — от долгой ли носки или от тяжких дум — и стали желтой и исчерна-лиловой, то получался выразительный символ. Знать бы только, чего.
Был я удачлив: на лету обучался, практиковался почти без срывов, совсем без шизофренических комплексов и вообще без наркотика. Что и требовалось доказать. Успевал ровно вдвое больше других и уставал — тоже вдвое сильнее.