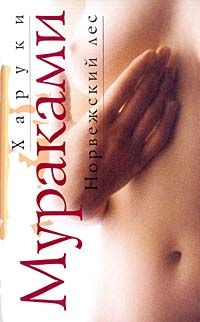Карина Демина - Ведьмаки и колдовки
— Надо.
На том и порешили…
ГЛАВА 8,
где события набирают обороты
Ничто так не убеждает в существовании души, как ощущение того, что в нее нагадили.
Из откровений пана Мазепова, живописца, сделанных им после первой творческой выставки, на каковую пан Мазепов возлагал немалые надежды— Труп, одна штука, — сказал Себастьян, пнув пана Острожского остроносой туфелькой. — Экий ты, братец, неосторожный. Кто ж так со свидетелями-то обращается?
Младший насупился.
Нервничает?
И на труп глядит с опаскою, точно подозревает за мертвяком нехорошее. Оно, конечно, бывает всякое, и встают, и ходят потом, людей обыкновенных лишая законного сна; но чутье подсказывало Себастьяну, что нынешний труп — самого обыкновенного свойства.
— Я его связал, — сквозь зубы процедил Лихо.
Его правда. Связал. Кожаным шнурком, которым обычно волосы подвязывал. И главное, вязал со всем старанием, затянул так, что шнурок этот едва ли не до кости впился.
— И на поле никого не было.
— Хочешь сказать, что он сам? — Себастьян, подобрав юбки, которые в следственном деле мешали изрядно, присел. Наклонившись к самым губам мертвеца, он втянул воздух. — Чуешь?
— Что?
— А ты понюхай.
Нюхать пана Острожского Лихо явно не желал, но подчинился.
— Медом вроде…
— Медом. И еще чем?
— Бес!
— Нюхай, я сказал.
Лихо зарычал.
— Ты ж волкодлак, у тебя чутье должно быть, как у породистой гончей… — Себастьян погладил братца по макушке и в приступе родственной любви, которая, как всегда, проявилась престранно, сказал: — Унюхаешь — правильно, я тебе ошейник куплю. Модный. Именной и с подвесочкой…
— А в челюсть? — мрачно поинтересовался Лихо, наклоняясь к самым губам пана Острожского.
— А в челюсть меня нельзя. У меня еще свидание…
Это Себастьян произнес с печалью, которая, однако, в ожесточившемся сердце младшего брата не нашла понимания. Лихо лишь фыркнул и ехидно поинтересовался:
— На свадьбу позовете?
— Всенепременнейше! И если дальше пойдет так же, то женихом… ты не отвлекайся, нюхай.
— Мед липовый… и деготь… еще воск… нет, воском он усы мазал.
— Молодец. Дальше?
— Соленые огурцы и чеснок… погоди… — Лихо отстранился и головой мотнул. — Чесноком пахнет, но… не изо рта. Он его не ел, а…
Лихо отодвинул ворот белоснежной рубашки и, увидев красную, покрытую язвами шею пана Острожского, тихо сказал:
— Это не я. Я его, конечно, придушил слегка… разозлился…
Себастьян покачал головой: крайне неосмотрительно было, с точки зрения пана Острожского, злить Лихослава. Он и человеком будучи характер имел скверный, а с волкодлака перед полнолунием и вовсе никакого спросу.
— На ожог похоже. — Лихо коснулся волдыря когтем.
— Ожог и есть, только не огненный, а химический, приглядись хорошенько… да расстегни ты ему рубашку, не волнуйся, он возражать не станет.
— Не скажи. — Прежде чем к рубашке лезть, Лихослав снял ботинки, стянул носки и, скатав комом, сунул их в рот покойнику.
Себастьян, за сим действом наблюдавший с немалым интересом, на всякий случай отодвинулся и, ткнув в труп пальчиком, произнес:
— Я, конечно, понимаю, что у тебя есть причины его недолюбливать, но… носки в рот? Это как-то чересчур. Прекращай глумиться над телом свидетеля…
Мертвяку он почти сочувствовал.
— Я не глумлюсь, — ответил Лихослав, для надежности затягивая поверх носков ременную петлю. — Он с Серых земель… и мало ли, как оно… это тут у вас покойники большей частью народ смирный, а там…
Договаривать не стал, разодрал рубашку мертвеца.
Пятно на груди было не красным — черным, вдавленным.
— Вот же… и не побоялся Вотанов крест надеть! — удивился Лихо, пятно трогая. — Хотя, конечно, если большей частью человек… крест его не спас.
— Но след оставил. Если крест был освящен должным образом, а судя по глубине ожога, потерпевший не пожалел денег на полный обряд…
Панночка Белопольска к мертвяку прикасаться брезговала. И всерьез подумывала про обморок, потому как девице приличной видеть этакие ужасы было непристойно… и не пристало… и вообще мутило… а ежели вдруг да вывернет?
— Мед… и еще огурцы… вряд ли он огурцы закусывал медом… или мед огурцами? — Лихо продолжал рассуждать вслух. — Медом на Креплиной пустоши пахнет… хорошо так пахнет, сладко… так и тянет с коня сойти и прогуляться по лужку…
— И как, находились?
— Находились. Их потом на лужке и находили… улыбались вот так же, счастливо. Белый дурман. — Лихо поднялся и руки вытер о штаны. — Он же — навья хмарь… или навий морок еще… правда, чтобы вот тут… странно.
Себастьян согласился: странно.
— Думаешь, эта его знакомая, к которой он Еву собирался…
— Думаю, что все это до хренища сложно и непонятно. — Себастьян обошел труп с другой стороны. — Зачем он нужен был колдовке? Убила, когда попался? Он бы все одно попался… дурак же ж… а с дураками связываться, даже хитрыми, оно себе дороже… зачем тогда?
Лихо ждал, если и имелись у него свои мысли, то делиться ими он не собирался.
— Ладно, — Себастьян потер виски, потому как голова начала мерзко ныть, не то мигренью испереживавшейся за день панночки Белопольской, не то собственной, Себастьяновой, нажитой от избытка информации, — свези-ка ты этого красавца Аврелию Яковлевичу. Пусть допросит… авось и повезет.
— А ты?
— А я не могу. Говорил же. Свидание у меня, чтоб его…
…часом позже многочисленные постояльцы коронной гостиницы, до того трагического дня, как поселился в ней Аврелий Яковлевич, имевшей репутацию самого спокойного в городе заведения, всерьез задумались о перемене места обитания. Хозяин же гостиницы, проклиная и собственную трусость, не позволившую отказать постояльцу столь сомнительному, и собственное же честолюбие, пил пахучие успокоительные капли и срывающимся шепотом проклинал всех ведьмаков разом. А заодно уж и королевских улан, напрочь лишенных что такту, что вообще понимания.
Причиной же сего переполоха, после которого тихий Гданьск взбудоражили самые разнообразные слухи, один другого жутче, стал черный, весьма зловещего вида экипаж. После говорили, что блестел он лаком и позолотой, а четверик коней вовсе дымы изрыгал. Впрочем, находились особы, настроенные скептически, утверждавшие, будто бы карета оная была вида самого обыкновенного, разве что по некой странной причине лишенная одной дверцы…
И правил ей вовсе не мертвяк в форме королевского улана.