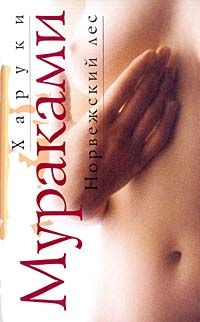Карина Демина - Ведьмаки и колдовки
— Простите… — Евдокия на всякий случай и к двери отступила.
— Вы должны понять, что Аполлон — тонкая творческая натура…
— Кто?
— Аполлон!
— Аполлон… — протянула Евдокия, разом успокоившись. — А что с ним? Шанежков объелся? Или опять рифму найти не может?
— Насмехаетесь… — Зонт выпал из ослабевшей руки, а сама Брунгильда Марковна, разом растеряв прежний запал, рухнула в кресло. — Он… он сущее дитя! Юный! Доверчивый! С душой открытой, в которую каждый способен плюнуть… он гений!
— Допустим. — Евдокия зонт подняла и протянула хозяйке.
— Он совершенно определенно гениален!
— Конечно.
Брунгильда Марковна всхлипнула.
— Но и гению нужна поддержка! Он только и говорит что о вас… а вы… вы здесь, а не с ним… не подумайте, что я вас обвиняю… вы слишком молоды, чтобы осознать, какая на вас возложена ответственность!
— Какая?
Евдокия окончательно перестала понимать, что происходит, и несколько растерялась.
— Огромная! Перед ним! Перед всем культурным обществом! Перед человечеством!
Вот только ответственности перед человечеством Евдокии для полного счастья и не хватало. Брунгильда же Марковна, вдохновленная тем, что ее слушают, продолжила:
— Судьба одарила вас великой миссией, но есть ли у вас силы, чтобы исполнить ее?
— Простите?
— Сумеете ли вы посвятить всю себя ему?
— Кому?
— Аполлону! — Это имя Брунгильда Марковна произнесла басом, несколько неожиданным для ее тщедушной фигуры.
— А… — Евдокия сняла лепесток ромашки, прилипший к подолу ее платья, которое следовало считать безнадежно испорченным. — А… мне обязательно посвящать себя ему? Нет, вы не подумайте… гений и все такое, но как-то на эту жизнь у меня другие планы.
Брунгильда Марковна молчала.
Долго молчала.
И наблюдала за мухой, которая кружила по комнате, нарушая трагическую тишину момента препошлейшим жужжанием.
— Значит, — глухо произнесла вдова великого литератора, — вы… не собираетесь… возложить себя на алтарь… служения…
— Не собираюсь.
Воспоминания об алтаре заставили Евдокию поежиться.
— Я так и знала.
Это прозвучало обвиняюще, и, пожалуй, в день другой Евдокия, быть может, усовестилась бы.
— Вы слишком молоды… неспособны осознать всю важность миссии…
— Неспособна, — покаянно произнесла Евдокия. — Но вы…
— Я? Я… я готова на все… ради гения… чтобы талант воспылал… на радость людям… отдать всю себя…
— А он?
— А он… он мне предложение сделать хотел…
— Но не сделал?
— Говорит, что без мамы нельзя… — Брунгилвда Марковна вздохнула. — И вас все время вспоминает… и я подумала… он к вам сватался, а вы отказали.
— Просто поняла, что неспособна… всю себя — и на алтарь…
— Это очень ответственно с вашей стороны, — одобрила Брунгильда Марковна. — Знаете, я шла сюда… я вас помню… вы показались мне крайне несерьезной особой… а ведь поэта каждый обидеть способен. У Полюшки очень тонкая нежная душа… и я решила, что ваш отказ его глубоко ранил, поэтому он и боится… думала, что если поговорю с вами… а вы с ним…
— Вы хотите выйти замуж?
Брунгильда Марковна смутилась.
И покраснела.
Краснеть она начала с подбородка, что мелко затрясся, выдавая волнение, в которое привел даму вполне себе невинный вопрос. Вдова известного литератора громко вздохнула.
Выронила ридикюль.
И, прижав ладони к бледным щекам, призналась:
— Хочу…
— За Аполлона? — на всякий случай уточнила Евдокия.
— Да… поймите, он такой… милый… очаровательный… беззащитный в этом жестоком мире!
Вот уж на беззащитного Аполлон походил слабо, но Евдокия кивала, четко понимая, что спорить с женщиной если не влюбленной, то всяко вознамерившейся сочетаться узами законного брака чревато.
— И без меня он пропадет! — воскликнула Брунгильда Марковна и пожаловалась: — Он вчера конфеток переел. А я ему говорила, что ему много нельзя! Не послушал… и теперь обсыпало всего.
— Ужас какой…
— А намедни молока выпил порченого. И я ж говорила кухарке, что оно скисло, вылить надобно. Так нет ведь! Глупая баба блины затеяла… а Полюшка молочко и выпил… пить ему захотелось… самолично на кухню отправился…
— Погодите! — Евдокия вытянула руку, обрывая рассказ, ибо заподозрила, что быть ему долгим и на редкость подробным. — Значит, вы хотите выйти за него замуж, а он не хочет делать предложение. И вы думаете, что виновата я, поскольку ему отказала? Так?
Брунгильда Марковна не ответила, но лишь потупилась.
— Знаете… у него ведь мама имеется…
— Да, Полюшка мне рассказывал. Страшная женщина! Она слишком авторитарна! Полагаете, это из-за нее… и что мне тогда делать?
На этот счет у Евдокии имелась идея.
— Пообещайте, что купите ему собаку.
— Кого? — Брунгильда Марковна опешила.
— Собаку. Щенка. Скажите, что подарите на свадьбу…
— А зачем?
— Ему хочется.
— Собаку… — Кажется, эта мысль была для Брунгильды Марковны внове. — Думаете, он…
— Уверена…
— Собаку… — Вдова подняла и ридикюль, и зонт, сунула их под мышку. — Бедный мой мальчик! Он рос в невыносимых условиях… у него даже собаки не было!
Брунгильда Марковна всхлипнула…
— Отсюда в его стихах скрытая боль… вчера он создал новый шедевр… Только послушайте! В очей коровьих зеркалах…
— Не надо! — взмолилась Евдокия и поспешно добавила: — Я… не чувствую себя способной оценить сие… творение по достоинству. Не доросла еще… наверное…
К счастью, Брунгильда Марковна настаивать не стала.
— У вас все еще впереди, — обнадежила она, прижимая ридикюль к сердцу. — Вот увидите… главное, видеть сердцем… мы готовим к изданию сборник Полюшкиных стихов… «Вымя».
— Что?
— Решили назвать его «Вымя»… символично, правда?
— Очень.
— Здесь и аллюзии на происхождение его, и на сакральную связь со Вселенной, которая подобно корове поит детей своих молоком разума… я приглашу вас на презентацию.
— Спасибо…
— И вам спасибо. За совет… поверьте, я не собираюсь уподобляться Полюшкиной матери… и скрывать от благодарных поклонников вашу роль в становлении его личности… вас запомнят как женщину, которой посвящено целое четверостишие!
Ужас какой.
Евдокия сделала глубокий вздох, приказав себе успокоиться.
— «Духи коровьего бытия». Мы так его назвали… и ваш роковой образ останется в веках.
— А… может, не надо?
Брунгильда Марковна окинула Евдокию мрачным взглядом и отрезала: