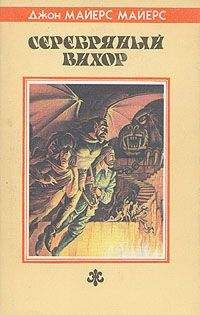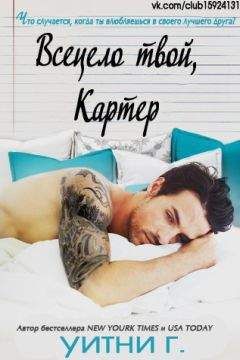Дмитрий Ахметшин - Туда, где седой монгол
Миновала ночь, и Ветер принёс грустную весть.
— Я говорил с мальчишками из твоего аила. Жалко, но далеко твой друг не ушёл. Ему было начертано стать подношением Тенгри, и в ту ночь подношением ему стали сразу две овцы — те, которых удалось поймать с кровавым клеймом. Из него выпустили кровь, а кожа и кости сгорели. Ты не должна сильно расстраиваться. Его назначил жертвой ваш верховный Шаман, и он достойно сопроводил его душу в великие степи.
Керме взгромоздила руки на плечи Ветра, встряхнула его.
— Он так хотел в горы. Очень грустно, наверно, умирать, так и не сделав что-то важное.
Ветер не стал спорить.
— Ну, если так, его душа найдёт способ добраться до этих гор. Может, она стала мотыльком, который летит по лунным лучам, перескакивая с одного на другой. Может, каким-то другим живым существом, медленно или быстро пробирающимся по степи.
Керме обняла руками колени. Как грустно. Он ведь эти горы видел в своих овечьих снах, сюда он не решался пойти, отделившись от стада и сюда рванул со всех своих коротеньких ножек, как только поверил в грозящую ему смертельную опасность.
— Но если ты умираешь… ты же сразу перемещаешься в небесные степи, разве нет?
Она почувствовала пристальный взгляд Шамана. Он капал и капал, заполняя какую-то чашу внутри Керме.
— У каждого живого существа есть своё предназначение, — услышала она его голос, глубокий — как будто говорил не горлом, а животом, — и грубый, как необработанная шкура. — Это как очень маленький человечек внутри тебя, который всегда точно знает, что ему нужно делать. Но его голос настолько тих, что смахивает на мышиный писк. Если ты прислушаешься, может, различишь что-то там, внутри…
Она снова в шатре Шамана, три или четыре зимы назад. Шаман любил детей, и полог его был всегда откинут для тех малышей, которые не боятся его тёмного кровавого искусства. Здесь всегда пахло дымом и кровью. Керме нравился запах крови: это запах жизни, как говорили служители Тенгри, как его можно не любить?..
— Я не пойму, — жалобно сказала Керме. — Внутри меня живёт ещё какой-то человечек?
Шаман хлопнул себя ладонью по колену.
— Ты должна делать всё, что он скажет. Тогда ты будешь спокойна, и будешь точно знать, для чего мать Йер-Су вскормила тебя своей грудью.
— Значит, каждый монгол делает то, что скажет ему маленький человечек внутри него?
В голосе появились намекающие на улыбку нотки.
— Очень сложно делать не то, что он хочет.
Керме надула губы.
— Я ничего не понимаю. Только сейчас ты сказал, что его голос тише мышиного писка.
— Мы сейчас говорим не о том, как попасть на небесные степи. Туда как раз попасть очень легко. А о том, что случается с теми, кто не попал. Он настолько тяжёлый, что даже дым не может поднять его. Поднимает над землёй, и роняет… И так вновь и вновь.
— Почему так? — спросила заворожено Керме.
Шаман пророкотал:
— Потому что неисполненный долг вцепился шакальими челюстями в его ноги и не отпускает. В таких условиях сложно стать лёгким, как дым. Тогда душа рождается заново, в другом теле, и будет рождаться, пока не исполнит всё, что должна. Только — сейчас я тебя запутаю! — у того тела тоже есть свой маленький человечек. Знаешь, каково это, когда внутри тебя живут сразу две цели?.. Ты стараешься угодить сначала одному, потом второму. Зимородок хочет ловить мошек, человек хочет спасти родной аил от засухи, натаскать ему хоть немного воды с дальней горной реки…
— И что же ему делать? — озадаченно спросила Керме. — Зимородку?
— Стараться успеть сразу всё.
Потом она с восторгом рассказала всё, что услышала, бабке, и та, взяв её за локоть, потащила обратно к шаманскому шатру.
— Что ты наплёл ребёнку?
— Не грохочи так. Я сижу в шатре, слушаю твои шаги, и боюсь, что меня сейчас сдует прямиком в небо… Всего лишь рассказал про человека-горошину.
— Про какого такого человека?
Керме пролезла под локтем старухи.
— А другие дети не слышат никакого человечка внутри.
Бабка сердилась.
— Она перепугала половину аила, когда сказала всем, что они не попадут в небесные степи, потому что их не поднимет дым. Найна надрала ей уши, а я сделаю то же самое тебе.
Шаман ничего ей не ответил. Звякнули талисманы, и Керме ощутила на себе его внимание. Оно всегда было очень ощутимо, как будто на тебя не просто смотрят, а ещё окатывают волнами запаха, обдувают воздухом и издают в твою сторону звуки.
— А ты слышишь?
— Я тоже не слышу.
— Это не обязательно, — подушки вновь заскрипели под его задом. — Маленький человечек разговаривает с нами не голосом, а вкладывая в голову какие-то желания. Старуха! Уйди, я говорю с тем, кому интересно, как устроен мир.
— Этот мир больше чем наполовину в твоей гнилой голове, — проворчала бабка.
— А насколько он маленький? — живо спросила Керме.
— Настолько, что на кончике иглы из рыбьей кости их может уместиться с десяток…
Этот разговор просвистел у неё в голове и завершился как раз тогда, когда Шона начал отвечать на вопрос о душе и небесных степях.
— Может, да, может, и нет, — сказал он. — Этого не знает никто. Но если твой Растяпа так хотел в горы, может, он сначала до них слетал?..
Девушка покивала, большей частью своим мыслям. Наверное, когда сжигали кости, дым не столбом убегал вверх, а стелился по земле, десятком ручейков утекая из аила и заполняя собой все ложбинки и лошадиные следы.
Да, так и было. Керме почти смогла себя в этом убедить. Овцой он был или нет, не просто так она выделила его среди всех остальных. Он каким-то образом выпадал из стада. Словно затесавшийся среди ромашкового поля цветок мака, переплётшийся с ними корнями, но всё равно другой.
Всё же рассуждения Шамана годились не только та то, чтобы примирить её с действительностью. Маленький человечек, которых умещается с десяток на кончике иглы, потеряв свой робкий овечий нрав, отправился до гор в одиночку. Каким же долгим должен быть его путь, если даже на путь в длину травинки ему потребуются многие дни?..
Текли вечера, складывались в недели. Зима где-то загостилась. Керме подозревала, что причиной её задержки может быть непомерное гостеприимство степняков. Наверняка сидит в каком-нибудь шатре и пьёт отвар из трав из неглубокой чаши. Здесь, на высоте, снег можно было найти всегда, любая ямка и впадина по утрам заполнялась холодным приятным пухом, и даже пруд покрывался тонкой кромкой льда. Но внизу, — рассказывал Шона, — до настоящей зимы ещё далеко. Деревья поменяли цвета, зайцы раздумывают, дрожа под кустами и кутаясь в пожидевшую шубку, пора ли обрастать белой шёрсткой или пока ещё этот шаг будет сулить не спасение, а только лишь смерть. Степь превратилась в один огромный музыкальный инструмент, сыграть на котором может каждый. Пробежаться по пояс в сухой траве, нарушить их стройный покой, а потом сидеть и слушать, как травы поют свою шершавую песню.